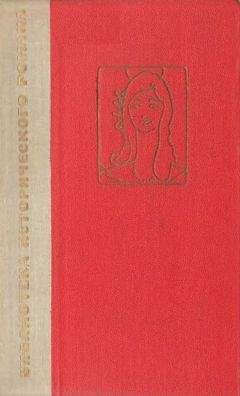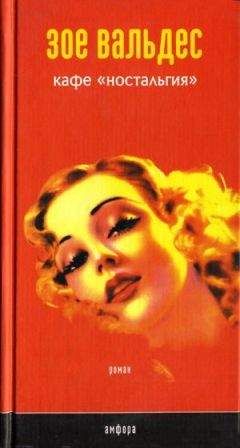— До сих пор не знаю, ниньо Леонардо.
— Вот как, не знаешь! А не потому ли, случаем, что ты Тонду убил?
— Быть может, они действительно хотят возвести на меня это ложное обвинение, ниньо Леонардо. Но ведь как все произошло? Я сидел себе в сапожной мастерской, знаете, на улице Манрике, и спокойно тачал сапоги. Вдруг является к нам капитан Тонда. Когда я увидел его в дверях, я сразу понял, что это за мной, и решил скрыться. На улице перед дверьми стояла коляска, и мне удалось проскользнуть в узкий проход между нею и стеной дома. Тонда бросился за мною следом и закричал: «Стой! Стой, ни с места!» и уж чуть было не схватил меня, но в эту минуту споткнулся о камень и, падая, напоролся на свою обнаженную саблю — он ранил себя в живот. Чем же я виноват в его смерти?
— Кто тебя арестовал?
— Капитан-педанео службы общественного порядка. Он схватил меня, когда я утром шел в мастерскую.
— Уж он-то, наверно, сказал тебе, за что тебя берут под стражу?
— Ни единого слова. Он только объяснил, что получил приказ взять меня живым или мертвым.
— Нечего сказать — достукался! Твое счастье будет, коли тебя не отправят на гарроту.
— На все воля господа нашего и пресвятой девы Марии. Не верю я, чтобы засудили невинного. Да и неужто хозяин и госпожа ничего для меня не сделают?
— Для тебя? Как бы не так! Станут хозяева о тебе хлопотать после того, что ты их так отблагодарил за доброту! Для нашей семьи, для всего нашего дома и для тебя самого, Дионисио, лучше будет, чтобы отправили тебя на поле Пунта да свернули шею гарротой. По крайней мере не станешь больше оскорблять белых девушек!
— Я, ниньо Леонардо? Да я, сколько жив, никогда девушек не оскорблял — ни белых, ни черных. Нет, ниньо Леонардо, не припомню я такого случая, чтобы обидел я какую-нибудь девушку.
— А про ту, из-за которой ты подрался после бала с мулатом, позабыл?
— Я ее не оскорблял, ниньо Леонардо. Прахом матери моей клянусь, я ни одного худого слова ей не сказал. Я пригласил ее на менуэт, а она мне ответила, что устала от танцев, и тут же пошла танцевать с Хосе Долорес Пимьентой. Тогда я у нее спросил, почему она меня обидела. Он стал за нее заступаться, ну, мы с ним поспорили, а потом на улице и произошла у нас эта стычка.
— Тебя послушать, подумаешь — овечка невинная. Скажи-ка ты мне лучше другое. Не приводили к вам сюда вчера вечером эту самую девушку, из-за которой вышла у вас драка с Пимьентой?
— Могу наверное сказать вашей милости, что ее здесь нет. Как только во двор приводят новенького, сразу же выкликают его имя, так что вся тюрьма слышит.
— Ну, храни тебя господь, Дионисио.
— Ниньо Леонардо, ради бога, одно только слово. Я вспомнил, что должен вручить вашей милости одну вещицу — она принадлежит вам, ваша милость.
— Какую вещицу? Говори скорей, мне некогда.
— У меня в кармане лежали часы — те самые, что госпожа подарила вашей милости в прошлом году. Я все надеялся, что настанет день и я смогу отдать их вашей милости, но надзиратели отняли их у меня. Так что теперь ваши часы находятся, вероятно, у начальника тюрьмы.
И Дионисио в немногих словах поведал о том, когда и при каких обстоятельствах попали к нему золотые часы его молодого господина. В последнее мгновение, когда Леонардо собирался уже уходить, Дионисио спросил его:
— Быть может, ниньо Леонардо знает что-нибудь про Марию-де-Регла?
— Мама привезла ее с собой из инхенио. Теперь она живет в городе, нанялась к кому-то служанкой. Ты разве ее не видел?
— Нет, сеньор. Я впервые слышу, что она вернулась. И почему господу не угодно было, чтобы мы с нею встретились? Тогда я не попал бы в тюрьму. Она бы заступилась за меня перед госпожой, и теперь я стоял бы, как прежде, на кухне у своей плиты!
Был уже вечер, когда Леонардо вторично явился в дом к комиссару. Он застал Канталапьедру в тот момент, когда полицейский вместе со своей сожительницей садился ужинать.
— А! Добро пожаловать! — воскликнул Канталапьедра и поднялся навстречу Леонардо, радушно улыбаясь и протягивая ему руку.
— Я рад, что застал тебя дома, — с суровой холодностью произнес Леонардо, делая вид, будто не заметил любезного жеста Канталапьедры.
— Я знал, что вы придете, — продолжал комиссар, стараясь не показать, как живо был он задет подобным оскорблением. — Фермина сообщила мне, что вы сегодня уже один раз почтили своим посещением этот скромным приют.
— Могу я с вами поговорить? Всего два слова.
— Боже мой, да хоть бы и все двести, сеньор дон Леонардо. Вы ведь знаете — я покорнейший из ваших слуг. Какая жалость, что вы не застали меня в полицейском участке, когда заходили туда под вечер. Меня в это время срочно вызвали в Политический секретариат. Если вы сейчас оттуда, то я просто не понимаю, как это мы с вами разминулись. Бонора! — крикнул он громко. — Подай стул дорогому гостю!
— Не беспокойтесь, — надменно произнес Леонардо. — Я постою. Но я хотел бы говорить без посторонних.
— Фермина нам не помешает. У меня от нее нет секретов. Мы с ней одна плоть и одна душа.
— С чьего соизволения вы взяли под стражу Сесилию Вальдес? — повелительно спросил молодой человек.
— Если не с соизволения его величества государя нашего дона Фердинанда Седьмого — да хранит его господь, — назначившего меня комиссаром, то, во всяком случае, с соизволения сеньора старшего алькальда. Именно он подписал ордер на арест этой девицы, поскольку к нему поступила жалоба на нее от некоего отца семейства.
— Нельзя ли узнать, как зовут этого алькальда и этого почтенного отца семейства?
— Не слишком ли многого вы захотели, сеньор де Гамбоа, — смеясь, отвечал комиссар. — Вы, я вижу, немного взволнованы… Присядьте, успокойтесь.
— Девушка, взятая вами под стражу, не совершила никакого преступления, и арест ее есть акт беззакония и произвола, если это только не гнусный фарс, разыгранный бог весть с какою целью, или не что-нибудь похуже.
— Но я тут ни причем, сеньор дон Леонардо. Я всего лишь исполнил приказ начальства.
— В таком случае, назовите мне имя жалобщика.
— Он знаком вам лучше, чем мне. А если вы не знаете, кто это, так скоро узнаете.
— Можете вы сообщить мне имя алькальда?
— Извольте, это не возбраняется. Алькальда зовут сеньор дон Фернандо де О’Рейли, гранд Испании первого ранга, старший алькальд округа Сан-Франсиско…
— Куда вы отвели девушку? В королевской городской тюрьме ее нет.
— Этого мне покамест говорить не велено. Я отвел ее туда, куда мне приказали ее отвести.
— Стало быть, вы скрываете ее с бесчестной целью!
— То, что я отказался удовлетворить ваше любопытство, еще но может служить основанием для столь оскорбительного умозаключения. Логики, побольше логики, сеньор студент философского класса!
— Напрасные старания, господин комиссар! Вся ваша таинственность и нежелание открыть мне правду ни к чему не послужат. Я все узнаю, и тогда, быть может, горько придется раскаяться и тому, кто затеял это недостойное, грязное дело, и тому, кто помог привести его в исполнение.
И с этими словами Леонардо, пылая гневом, поспешил домой. Родители его в этот вечер принимали визиты. Но молодой человек даже не заглянул в гостиную. Он приказал закладывать, переоделся, и когда донья Роса, увидев его через решетку вестибюли, удивленным жестом выразила недоумение по поводу столь поспешного отъезда, он отвечал ей лаконично:
— Я еду в театр.
В этот вечер в нарядном здании главного городского театра давали «Рикардо и Зораиду» маэстро Россини — оперу, избранную певицей Санта-Мария для своего бенефиса. Импрессарио труппы тогда был дон Эухенио Арриаса, а дирижером оркестра — дон Мануэль Кокко, с братом которого мы имели случай познакомиться в инхенио Ла-Тинаха. В ту пору опера не пользовалась успехом у нашей публики, и потому партер и ложи на таких спектаклях обыкновенно оставались наполовину пустыми. Леонардо опоздал к поднятию занавеса, что лишило его удовольствия услышать увертюру к «Танкреду», исполнявшуюся в этот вечер перед началом оперы.
Наш герой явился в театр, уверенный, что найдет нужного ему человека в почетной центральной ложе бельэтажа, ибо человек этот был старший алькальд и без него в главном городском театре не начиналось ни одно представление. Действительно, алькальд сидел на обычном своем месте, рядом со своей супругой, уроженкой Мадрида, и, забыв обо всем на свете, упивался звуками музыки. Позади него, в глубине ложи, у дверей стоял слуга-мулат в богатой ливрее, расшитой золотыми геральдическими львами и башнями. Все это Леонардо рассмотрел из коридора, заглянув в ложу через овальное окошечко закрытой двери. Он мог бы постучать и был бы не только впущен, но и любезно принят, однако предпочел дождаться антракта на балконе буфетной залы, выходившей окнами на бульвар Де-Паула.