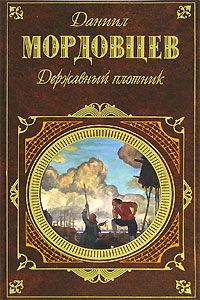— А заклепал их в горы.
— А они не придут к нам?
— Бог весть... Може, и придуть... В последнии времена, сказано в Писании.
Остромире вдруг стало страшно... А как последние времена уже настали? Не они ли, эти страшные люди, идут на Новгород вместе с Москвою?
И ей вспомнился ее Павша — далеко он, на поле ратном... А как и его возьмут заклепленные в гору люди?.. Сердце ее сжалось... Строки и слова рябили в глазах, но она читала дальше, хотя уже не вслух: «И еще мужи старии ходили на Югру и за Самоядь, яко видевше сами на полуночных странах — спаде туча, и в той туче спаде веверица млада, аки топерево рожена, и взростши расходится по земли, и паки бывает другая туча, и спадают оленцы малы в ней, и возрастают и расходятся по земли...»
— Так это, дедушка, с неба падают оленцы маленьки?
— С тучею спадают, милая.
— Как же это?
— Не вем... Божие то произволение... И кровавый дождь бывает — ино и то произволение Божие, и означает кроволитье, рать, огнь и мечь.
— А ноне не было кровавого дождя, дедушка?
— Не слыхал, милая.
Девушка задумалась. Исачко опять завладел киноварью и хотел было тоже писать что-то в летописи, но Остромира отстранила его руку с пером...
— И давно, дедушка, ты пишешь летопись?
— Давно, дитятко, третий десяток уже тружусь во славу Божию. Умру я, грешный, а мое худое писание будут читать людие новугородстии...
Он взглянул в оконце кельи, оттенил глаза ладонью, поправил на голове скуфейку.
— А вон и они, спаси их Господи.
— Кто?.. Баба моя?
— И Марфа-посадница, и Настасья.
Исачко стрелой вылетел из кельи.
Но недолго пришлось на этот раз богомолкам оставаться в монастыре. Не удалось и Исачке повозиться с интересною киноварью и перепачкать себе лицо, руки и новенькую шелковую сорочечку. Не привелось и Остромире в сотый раз переспросить дедушку Нафанаила о том, как преподобный Варлаам основывал здесь Хутынскую обитель[66], как он жил в тесной келейке и воевал с бесами, как неугомонные бесы чинили преподобному всевозможные пакости, как они являлись к нему во образе зверей невиданных и чудищ неизглаголанных, и иногда даже во образе таких востроглазых бесенят, как сама Остромирушка; как преподобный всех их в конце осрамил и загнал в болото, откуда они и доселе выходят, и людей, особенно рыбаков, по ночам смущают, как преподобный Варлаам воскресил одного утопленника, или как он, на приглашение новгородского владыки побывать у него в городе, отвечал, что приедет к нему в санях на первой неделе Петрова поста, и как действительно в июне выпал снег и Варлаам приехал в Новгород на санях...
По монастырю прошла весть, что отправившиеся против москвичей рати воротились. Весть эту принесли рыбаки, привезшие в монастырь с Ильмени рыбу.
Богомолки поспешили на берег — подробнее расспросить об этой радостной вести. Остромира земли под собой не чуяла от счастья... Вот она вернется сейчас в Новгород, увидит своего ненаглядного суженого, черноглазого Павшеньку — каким-то он стал теперь витязем, как он поглядит на нее из-под своего блестящего шелома, как глаза их встретятся, как она замрет на месте от стыда и счастья, как вечером она выбежит к нему под «топольцы», как он опять обнимет ее и будет целовать ее глаза и косу — ах, срам какой! — и как она сама его — фу, срамница! — будет целовать и в губы, и в шелковые усы, и в мягкую, как ее коса, бороду — ах, стыд какой, матушки! — ах, как все-таки хорошо, хоть и стыдно, целоваться... Ай-ай! Она так и дрожала вся, выбежав на берег и прислушиваясь к говору рыбаков...
— Ловим мы, ан глядь — билеют парусы...
— Видимо-невидимо насаду!..
— И Москву, сказывают, погромили начисто — у-у!
— До ноги, слышь, всех кособрюхих уложили...
— А полону-то, полону — и-и! — и не приведи!
— И самого московского поди изымали...
— Князя Ивана чу?
— Ивана, князя великово!
— Где изымать!.. Наш Гюрята, сказывают, на ево как ринется, а ен возьми да и оборотись куликом... да скок в Ильмен — и поплыл, долгоносый...
— Н-ну! Сказывай сказки!
— Не сказки... А Гюрята-те соколом перекинься, да за им...
— Что ты! Ври больше!
— Не вру, лопни глаза-утроба... А ен, чу, князь-то московской, себе на уме — окунем перекинься...
— Окунем?
— Окунем. А Гюрята-то парень не промах — щукой перекинулся...
— Щукой! Ах, чтоб ево!
— Щукой, паря, да за им, да за им...
— Ну и что ж?.. Переял?.. А?
— Что!.. А ты не суйся под язык!
— Я не суюсь — не оса...
Посадница поняла, что тут что-то да не так, коли рассказчик ударился в сочинительство об окуне да о щуке.
— Да кто видел самое рать-ту, братцы? — допытывалась она. — Кто верх одержал в бою?
— В бою?.. Да мы-ста, боярыня, наши-ста робята...
— А кто сказывал подлинно?
— Пидбляне сами видали.
— Не сами, а робятки их сказывали, что насады пловут.
— Видимо-невидимо насадов... Уйма!
Марфа на рыбаков рукой махнула...
Надо было скорей ехать в Новгород, тем более что в этот самый момент издали послышался звон вечевого колокола... Рыбаки посымали шапки и крестились.
— Вон, братцы, чу! Заговорил родной...
— Эхма! Разнесли Москву!
Марфа приказала отчаливать от берега...
Остромира и Исачко сидели сияющие, блаженные: она видела себя под «топольцами» с своим суженым, а он воображал себя с огромным московским пряником в руках — «сам батя привез».
А колокол все кричал — тревожнее и тревожнее...
— Прибавь ходу, ребятушки. Глыбче весла, — говорила посадница.
— Ну-ко разом... Ну-ко ухнем, братцы!
— У-ух — у-ух — у-ух!
Весла глубоко бороздили Волхов, насад вздрагивал и резал острым килем воду, оставляя за собой длинную полосу.
Вечевая площадь запружена колышущимися массами... Слышны вопли... У Марфы похолодели руки, оборвалось сердце, потемнело в глазах...
С трудом, цепляясь за народ, она протискивалась в середину, к вечевому помосту... До слуха ее со всех сторон, словно жужжащие шмели, долетали бессмысленные, страшные слова, клочки говора, непонятные и в то же время страшно ясные своим ужасом полуречи и, как шмель, впивались в ее сердце:
— У Коростыня... на берегу... изменою...
— Владычень стяг не дошел... наши не устояли...
— Которы потонули, котороньки-светы в полон взяты.
— И Гюрята убит... Наши кончане все полегли костьми...
— Пропал Великий Новгород!.. Пропали наши головы!
— А все идол Марфища!.. На поток ее, идола окаянного!
— На поток!.. Разнесем Марфины животы!..
У края вечевого помоста стоял посадник, белый, как его борода... Он что-то говорил, кричал, но голоса его не слышно было в буре народных голосов, проклятий и воплей... В окне вечевой колокольни торчала седая голова вечевого звонаря с жалким, испуганным лицом: «Вона в чьей кровушке бродил ворон — и теперь поди в ей бродит, окаянный»...
Вдруг сзади послышались новые крики, вопли, стенания... Женские голоса перекрикивали всех — они выли в истошный голос, выли до неба, раздирали душу...
Марфа-посадница, которая, отыскав в толпе своего сына Димитрия, еще бледного, но уже оправившегося от ударов рогатин и сулиц у Коростыня, обнимала и целовала его, услыхав эти вопли, опустила руки и смотрела на толпу испуганными глазами... Посадник, стоя на помосте впереди концовых старост и тысячских, старался через головы толпы рассмотреть, что там еще случилось... Какая новая беда?.. Не Москва ли обступила Новгород?
Толпа хлынула в разные стороны, и глазам всех представилось страшное, непонятное, непостижимое зрелище... «Что это? Кто? Что у них на лицах?..»
Вопли и стоны все усиливались. Стонал весь Новгород.
— Злодеи! Душегубы! Матушка Софья святая! — кричал с колокольни вечный звонарь и рвал свои жидкие, седые волосы. — О, злодеи адовы!..
К вечевому помосту приближались какие-то страшные люди... Да, это люди. Но лиц их не видать... Видна запекшаяся черная кровь... Иные лица обернуты кровавыми тряпками... На иных видны только глаза. О! Какие глаза!.. На других белеют зубы, ничем не прикрытые — без губ, без усов... Все это обрезано — и губы и носы. Видны только глаза и белые зубы, да тряпки, да черная кровь... Все в пыли, худые, страшные, без доспехов, босые, полунагие...
Это были новгородцы, отпущенные москвичами из плена после дьвольской операции... Они добрались-таки до родного, вольного города, но не все, далеко не все...
Остромира, безмолвная и бледная, дрожа как осиновый лист и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами в этой толпе страшных пришельцев. Но как узнать того, кого она искала?.. Где его лицо, где его ласковая, игривая улыбка?
Но она узнала его — не его, нет, его не было, — она узнала его глаза, одни глаза... А под глазами не было его лица — не было его... Это не он — нет, и глаза не его...Это не он — это чужой кто-то...