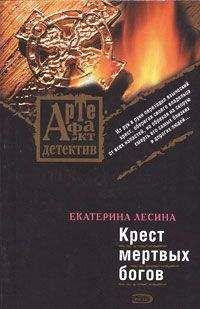попадается средь приезжих, особливо за мужиками следи, наезжают в уезд с бумагами разными. Хуже их нету. Я взвилась прямо-таки, ей-бо, ору, верно!.. Уж мне ли не знать!
Револя не сразу пришел в себя от Мотькиного рассказа, во все то время, что знал ее, она ни разу не говорила об этом. Надо ж, как распалилась! По всему, взыграла старая обида на мужиков. Ничего другого Револя не увидел за Мотькиными словами, только это. Она вздохнула, но огорчилась не сильно, чего огорчаться, иль поменяешь Револю, иль сыщешь еще кого-то, чтоб ласков был с нею? Дожидайся!
Во дворе начало темнеть. Мотька зажгла семилинейную лампу, подтянула фитиль, осторожно опустила стекло. Лампа стояла посреди стола, освещая неярко, с какой-то словно бы опаской, суровое лицо Револи. Мотька вдруг подумала, что не помнит, когда бы ее полюбовник улыбался. Она нынче прибирала в большом сером доме, где работал глава сельской администрации, некто желтобородый и темноглазый, чужак из уездного городка, топила там печку, переписывала какие-то бумаги, владея почерком ровным, не прыгающим, в прямую строку укладывающимся.
Мотька поставила самовар, а потом подсела к столу, поближе к Револе, прикоснулась теплой ладонью к его рукам, а почувствовав холод, исходящий от них, засуетилась, отодвигаясь. Револя покосился на нее, но ничего не сказал, заговорил о новой власти, она ему пришлась по нраву, хотя и прежняя не обижала его, давала работу по душе, все ж эта власть глянулась больше, была покруче… В свое время Револя, боясь проспать ее светлый приход, и в постель-то ложился не раздеваясь, разве что иной раз стянет с тощих ног сапоги, а уж рубаху ни при какой нужде не снимет. Он и теперь не поменял этой своей привычки. К каким только уговорам не прибегала Мотька, все без толку, и под конец она махнула рукой на него.
Она дождалась, когда закипел самовар, и разлила в чашки вкусно пахнущий, зеленый, с молоком, чай, нарезала мелкими ломотками хлеб. Нечего разбазаривать хлебушко! Револе, сколько не подай, все съест. Но правда и то, что ломотком-другим удовлетворится, коль скоро лишь это окажется на столе. Он, пожалуй, равнодушен к еде, велят поесть, он поест, а когда не скажут, и не вспомнит…
Мотька покормила Револю, убрала со стола, разбросала постель в горнице и юркнула под одеяло, скинув с себя широкое, из яркого цветастого ситца, платье. Оставшись в рубахе, долго, одним глазом, следила, как Револя, присев на край кровати, сопя, возился со штанами, вздыхала с грустью. Она все наперед знала, и что будет, и как будет, и думала, что все они, кто ближе к власти, вроде бы ничего сами по себе, ей ли не знать, да вот беда: мужики уж больно слабые, замаешься с ними. Но вот ее мысли повеселели, это когда она подумала, что никто не обязывал ее лежать в горенке до утра, ближе к ночи, когда Револя будет видеть десятые сны, она уйдет.
Все так и вышло. Мотька провалялась до полуночи, прислушиваясь к неспокойному Роволиному сну, а потом, поглядев на часы, что висели на стене и громко тикали, и увидев в тусклом лунном свете часовую стрелку, подкрадывающуюся к двенадцати, вылезла из-под одеяла. Она не боялась, что Револя проснется, разве что вдруг начнут стрелять у самого его уха. Она стала одеваться и невнятно бормотать что-то, даже и не догадываясь про это. Она нынче вся ушла в себя, в то приятное сердцу, что ожидаемо ею в темную ночь, какие-то слова, никому не подвластные, выплескивались из горла и текли тихим рокочущим ручейком. Не скоро еще Мотька догадалась, что говорит сама с собой. Сделалось досадно. Но досада спустя немного исчезла. Мотька вышла из дому, прикрыв скрипнувшую дверь. Не раз просила Револю: отладь, противно ж: скрипит да скрипит, — но разве от него дождешься: беспутный, земли под ногами не чует, придется самой что-то придумать…
Мотька очутилась на пустынной улочке, прислушалась, как бьется сердце, но так и не уловила сладкого и ноющего чувства, захлестывающего ее, когда оказывалась одна. Она точно бы боялась чего-то, ну, хотя бы глухо и тягостно павшей на землю, лишь с края обрываемой лунным светом, раскинувшейся на сотни верст, темноты. Впрочем, нет, она не боялась, скорее, делала вид, что робеет, так было приятно, в ней в такие минуты пробуждалось что-то слабое и трепетное, не похожее на все, что чувствовала в обычное время и как понимала себя, стараясь подольше удержать трепет, опасаясь малейшим всплеском других чувств потревожить это, слабое. Так она и шла по улочке, словно бы и не она, а незнакомая женщина, которая остро, почти болезненно ощущала все, что происходило в темноте, давящей на глаза. Женщина, что нынче шла по улочке и походила на Мотьку, не нравилась ей, она хотела бы посмеяться над нею и подивиться робости, что, казалось, жила даже в дыхании незнакомки. Но отчего-то не смела. Все же думала, что она несчастная баба, ее сильно обидели и поломали жизнь, почему она и стала такой. Кто же тут виноват? Да все они, те, что нынче спят в избах, и кто желал бы видеть в ней зло. Но почему, по какому праву?.. Мотька распалила себя, отринув всякую опаску, отчего та женщина, что жила в ней, или точнее сказать, жила заместо нее, исчезла, а вместе с нею исчезло слабое и трепетное чувство, приятное сердцу. И Мотька насмешливо посмотрела туда, где едва угадывались крестьянские избы, сказала с вызовом:
— А вот я вам!.. — и пошла, теперь уже не прислушиваясь к себе и дивясь тому нежному и мягкому, что было в ней до этой минуты, впрочем, и тогда чуждое ей. Она торопилась и мысль билась в голове: «А вот я вам!..» — в сущности прямолинейная, понимаемая в одном своем действе, эта мысль укрепилась, и Мотька с удовольствием прочитывала ее в своем сознании.
«А вот я вам!..» — в который уж раз сказала она, подойдя к забору, обтянутому тугой проволокой, как раз к тому месту, где стояла вышка и откуда падал на землю желтый свет.
— Эй, там, на вышке! — крикнула она. — Не вишь, я прибегла!..
— А раз прибегла, то и подымайся!.. — донеслось сверху легкое и веселое. Мотька, сделавшись и вовсе лихой, отчаянной, какой бывала лишь в такие ночи, за что они и нравились ей, начала торопливо, насвистывая, подыматься по лесенке. И, чем выше подымалась, тем становилась нетерпеливее. Когда же оказалась на самом верху и ощутила на плечах тяжелые,