Он промокнул глаза, один, потом другой, белым носовым платком. Двое конвойных слегка отстранились от мастера.
И тогда закричал Яков:
— Всё это сказки, всё до единого слова! Кто может такому поверить? Только не я! — Голос у него дрожал, лицо побелело.
— Кто может вместить, тот вместит, — сказал священник.
— Ведите себя уважительно, не то хуже будет, — сдерживаясь, прошипел Грубешов. — Слушайте и мотайте на ус.
— Как может такое быть, если все обстоит совсем даже наоборот?! — охрипнув, кричал мастер. — Можно сколько угодно рассуждать с одним-двумя фактами, но никакой я не вижу тут правды! Вы меня простите, ваше священство, но каждый знает, что Библия нам запрещает есть кровь. И это по всей книге, в законах, во всем. Сам я почти забыл священные книги, но я жил среди народа, который знает свои обычаи. Сколько яиц повыбрасывала моя жена козе, если только заметит на желтке малейшее пятнышко крови. «Рейзл, — я ей говорил, — ты это напрасно. Мы не можем жить как короли». Но никакими правдами и неправдами невозможно было вернуть на стол это яйцо, предположим, кто-то бы и захотел, но разве я хотел, нет, человек ведь привыкает к обычаям. И разве с ней можно было спорить, ваше священство? И никогда я не говорил: «Зря ты выбросила то проклятое яйцо». Да она бы в меня запустила этим яйцом, скажи я такое. И она часами мыла мясо и куру, какие иногда к нам попадали на стол, чтобы ни единого пятнышка крови не оставалось, и потом еще солью присыплет для верности. Все полоскала водой, без конца полоскала. Клянусь, это чистая правда. И клянусь, я не совершал преступления, которое, вы говорите, я совершил, не лично вы говорите, ваше священство, но кое-кто из присутствующих. Я не хасид, я не цадик. Я мастер, мастеровой по профессии, и невыгодней профессии вы не найдете, а еще я недолгое время служил солдатом в русской армии. И если уж честно сказать, я человек неверующий, я свободномыслящий. Сначала мы с моей женой из-за этого ссорились, но потом я сказал ей, что религия человека — это его личное дело, и больше ничего, вы уж меня простите, ваше священство, за такие слова. И конечно, я пальцем не тронул этого мальчика, и вообще я ни одного мальчика в жизни не тронул. Я сам когда-то был мальчиком, и это время мне трудно забыть. Я люблю детей, и я был бы счастливым человеком, если бы моя жена родила мне ребенка. И не в моем характере делать все эти вещи, какие вы описали, и если вдруг кто так думает, то, безусловно, он примимает меня за кого-то другого.
Он повернулся к официальным лицам. Все вежливо слушали, даже оба присутствовавших черносотенца, хотя тот, что пониже, не мог скрыть отвращения, какое испытывал к мастеру. А другой уже шел прочь. Кто-то в фетровой шляпе нежно улыбнулся Якову, но тотчас бесстрастно уставился вдаль, на парящие над каштанами золотые купола собора.
— Лучше признаться, — сказал Грубешов, — чем поднимать эту бесполезную вонь.
Он извинился перед отцом Анастасием за крепость своих выражений.
— В чем мне признаться, ваше благородие, если я вам сказал, что ничего я такого не делал? Я могу вам признаться кое в каких вещах, но не могу признаться в таком преступлении. Вы уж меня извините — не делал я этого. И зачем бы я стал делать такое? Вы ошибаетесь, ваше благородие. Кто-то совершил серьезную ошибку.
Но никто не хотел слушать. И тяжелая тоска пала на душу мастера.
— Признаться надо, как все было, — сказал Грубешов. — Как вы конфетками заманили мальчика в конюшню, а потом набросились на него вдвоем или втроем, сунули в рот ему кляп, связали по рукам и ногам и поволокли по лестнице в ваше помещение. Там вы над ним помолились в своих черных хламидах и шляпах, раздели испуганное дитя и стали колоть его в определенных местах, первый уколол двенадцать раз, второй нанес тринадцать ран, каждый по тринадцати в области сердца, в шею, откуда вытекло больше всего крови, и в лицо — в соответствии с вашими каббалистическими книгами. Вы терзали и пытали его, наслаждаясь ужасом вашей невинной жертвы, жалкими криками о пощаде, тем временем собирая живую кровь в бутыли, покуда он совсем не истек кровью. Пять или шесть литров живой крови вы поместили в черную сумку, и, как я понимаю этот обычай, горбатый еврей отнес ее в синагогу, чтобы приготовить мацу и афикомен. И когда сердце несчастного Жени Голова остановилось и он лежал на полу мертвый, вы вместе с тем цадиком в белых чулках подняли его и отнесли глухой ночью вот в эту пещеру. Потом оба вы ели хлеб-соль, чтобы дух его не преследовал вас, и поспешили прочь, пока не взошло солнце. Опасаясь, как бы не обнаружились кровавые пятна у вас на полу, вы потом подослали одного своего еврея, чтобы сжег конюшни Николая Максимовича. Вот в чем вам следует признаться.
Мастер со стоном ломал руки и бил себя в грудь. Он поискал глазами Бибикова, но следователь вместе с помощником куда-то исчез.
— Ведите его в пещеру, — приказал Грубешов.
Щелкнув зонтиком, он быстро пошел вперед, карабкаясь по ступеням, и вошел в пещеру.
Короткие кандалы не давали Якову переступать по крутым ступеням, но два жандарма, подхватив под руки, волокли и толкали его, а двое конвойных вплотную шли сзади. Потом один жандарм вошел вовнутрь, а Якова протащили через каменный узкий проход.
В сырой, пахнувшей смертью пещере, в тусклом свете оплывших, полукругом закрепленных по стенам свечей Грубешов показал Якову его мешок с инструментом.
— Это ваши инструменты, Яков Бок? Их обнаружил в вашем помещении над конюшней возчик Рихтер.
— Да, ваше благородие, я много лет ими пользовался.
— Посмотрите на этот ржавый нож и на шила, с которых кровь вытерта этой вот тряпкой, и посмейте теперь отрицать, что эти орудия были вами использованы, дабы проткнуть и обескровить тело доброго и невинного христианского мальчика!
Мастер заставил себя взглянуть. Он смотрел на посверкивающее острие шила, а за ним, в глубине пещеры, которую он ясно видел теперь, были все, и была Марфа Голова, покрытая черным платком, и в ее мокрых глазах отражалось свечное пламя, и она на коленях рыдала у гроба Жени, выкопанного ради такого случая из земли, и он лежал голый в смерти, и на сером жалостном тельце при свете длинных, густо оплывающих свечей — одна возле большой головы, другая у маленьких ножек — видны были раны.
Яков поскорей сосчитал раны на вздувшемся детском лице, крикнул: «Четырнадцать!»
Но прокурор отвечал, что это дважды магическое число семь, и отец Анастасий, распространяя чесночный дух, с тихим стоном упал на колени и начал молиться.
1
Дни идут, и русские официальные лица ждут с нетерпением, когда начнутся у него менструации. Грубешов и армейский генерал то и дело сверяются с календарем. Если скоро не начнется, они грозятся качать кровь у него из пениса, у них есть такая машинка. Машинка эта представляет собой насос из железа с красным указателем, чтобы знать, сколько выкачано крови. Однако у насоса есть недостаток — он не всегда работает правильно и, бывает, выкачивает из тела всю кровь без остатка. Применяется он исключительно к евреям — только у них для этого подходящий пенис.
Утром в камеру пришли надзиратели и грубо его растолкали. Тщательно обыскав, приказали одеться. В наручах и ножных кандалах его протащили наверх на два марша, он-то надеялся, что в кабинет к Бибикову, но оказалось, к прокурору, через площадку. В прихожей, на скамье у стены, двое в потрепанном платье украдкой глянули на арестанта и опустили глаза. Шпионы, подумал Яков. Кабинет у Грубешова был просторный, с высоким потолком; большая икона — распятый Христос с синим нимбом — висела на стене над письменным столом, за которым, листая бумаги и сверяясь с раскрытыми книгами, сидел сам генеральный прокурор. Мастеру приказали сесть напротив Грубешова, а позади него встали конвойные.
День был знойный, окна закрыли из-за жары. Прокурор был в светло-зеленом костюме, на той же грязно-желтой манишке торчала черная бабочка. Баки прокурора были аккуратно расчесаны, потное лицо, толстый загривок и ладони он утирал большим носовым платком. Яков, угнетенный своим ночным кошмаром, не мог себя заставить смотреть на прокурора после действа в пещере и чувствовал, что вот-вот задохнется.
— Я решил в ожидании суда поместить вас в камеру предварительного заключения Киевского острога, — сказал Грубешов, высморкавшись и тщательно вытирая нос. — Трудно, разумеется, сказать, когда состоится суд, а потому я счел за благо сначала поинтересоваться, не стали ли вы сговорчивей? У вас было время поразмыслить, и, возможно, вы теперь не станете запираться. Ну-с, что скажете? Дальнейшее упрямство ничего вам не даст, кроме головной боли. Сговорчивость, может статься, облегчит вашу участь.
— Что же я еще могу сказать, ваше благородие? — Мастер тяжело вздохнул. — Я заглянул в небольшую кладовую, где лежат все мои слова, и ничего больше не могу сказать, кроме того, что я невиновен. И никаких свидетельств против меня нет, потому что я не делал того, что вы про меня говорите.
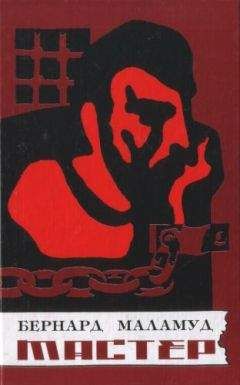


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)