День был знойный, окна закрыли из-за жары. Прокурор был в светло-зеленом костюме, на той же грязно-желтой манишке торчала черная бабочка. Баки прокурора были аккуратно расчесаны, потное лицо, толстый загривок и ладони он утирал большим носовым платком. Яков, угнетенный своим ночным кошмаром, не мог себя заставить смотреть на прокурора после действа в пещере и чувствовал, что вот-вот задохнется.
— Я решил в ожидании суда поместить вас в камеру предварительного заключения Киевского острога, — сказал Грубешов, высморкавшись и тщательно вытирая нос. — Трудно, разумеется, сказать, когда состоится суд, а потому я счел за благо сначала поинтересоваться, не стали ли вы сговорчивей? У вас было время поразмыслить, и, возможно, вы теперь не станете запираться. Ну-с, что скажете? Дальнейшее упрямство ничего вам не даст, кроме головной боли. Сговорчивость, может статься, облегчит вашу участь.
— Что же я еще могу сказать, ваше благородие? — Мастер тяжело вздохнул. — Я заглянул в небольшую кладовую, где лежат все мои слова, и ничего больше не могу сказать, кроме того, что я невиновен. И никаких свидетельств против меня нет, потому что я не делал того, что вы про меня говорите.
— Очень, очень жаль. Ваша роль в этом убийстве была нам ясна еще до того, как мы вас арестовали. Вы — единственный еврей, живший в Лукьяновском, исключая Мандельбаума и Литвинова, купцов первой гильдии, которые были вне пределов России во время совершения убийства, возможно, и неспроста. Мы сразу заподозрили еврея, ибо русский подобного преступления совершить, конечно, не мог. Русский человек способен в драке перерезать кому-то горло, способен вдруг отдубасить кого-то до смерти, но никогда он не станет изуверски мучить невинного ребенка и наносить на его тело сорок семь смертельных ран.
— Так же, как и я, — сказал мастер. — Что-что, а это не в моем характере.
— Тяжесть улик говорит против вас.
— Так может быть, это неверные улики, ваше благородие?
— Улики есть улики, они не могут быть неверными.
Голос у Грубешова стал чуть не заискивающим:
— Скажите правду, Яков Бок, не заставила ли вас еврейская нация совершить это преступление? Вы кажетесь человеком положительным, возможно, вы не хотели, но вам приказали, вас склонили посулами и угрозами, и вы против собственной воли совершили для них это убийство? Иными словами, возможно, это не вы задумали, а они? Если вы это признаете, скажу вам откровенно, ваша жизнь станет легче — выразимся так. Мы приостановим расследование. Возможно, через какое-то время вы будете отпущены под честное слово, приговор будет отсрочен. Иными словами, откроются кой-какие возможности. Единственное, что мы просим у вас, — вашу подпись, заметьте, не так уж много.
Лицо у Грубешова блестело от пота, он, кажется, делал больше усилий, чем хотел показать.
— Как же я могу сделать такую вещь, ваше благородие? Не могу я сделать такую вещь. Зачем я буду валить вину на невинных людей?
— История доказывает, что не так уж они невинны. К тому же я не понимаю ваших ложных угрызений. В конце концов, вы сами говорили, что вы свободомыслящий, вы при мне говорили. Евреи очень мало для вас значат. Я так понимаю, что вы сами по себе, и я вас за это не осуждаю. Смотрите же, у вас есть возможность освободиться от пут, в которых вы застряли.
— Если евреи для меня ничего не значат, так почему же я здесь?
— Вы по неосторожности стали орудием их гнусных целей. Что они для вас сделали?
— В конце концов, ваше благородие, они хотя бы оставили меня в покое. Нет, я такое не могу подписать.
— Тогда примите во внимание, что последствия из этого могут для вас проистекать весьма и весьма тяжелые. Приговор суда будет наименьшей из ваших бед.
— Прошу прощения, — сказал мастер, задыхаясь, — неужели вы верите во все эти сказки про колдунов, которые крадут кровь убитых христианских младенцев и подмешивают в мацу? Вы же образованный человек, конечно, вы не верите таким суевериям.
Грубешов, слегка усмехнувшись, откинулся на стуле.
— Я верю, что вы убили Женю Голова для ритуальных целей. Когда им станут известны эти истинные факты, все русские им поверят. Вот вы — верите? — спросил он у конвойных.
Те рьяно подтвердили, что верят.
— Ну конечно, мы верим, — сказал Грубешов. — Еврей есть еврей, тут ничего не попишешь. Их историю и характер ничто не изменит. Уж такая у них природа. Это доказано научными исследованиями Гобино, Чемберлена[15] и других. Мы тут в России, кстати, тоже готовим свое исследование о типичной еврейской внешности. У нас поговорка есть, что на воре шапка горит. Что касается еврея — так на нем нос горит, изобличая преступника.
Он раскрыл блокнот на рисунках чернилами и карандашом и так повернул, чтобы Яков мог прочесть наверху страницы надпись: «Еврейские носы».
— Вот, например, ваш. — И Грубешов ткнул в тонкий горбатый нос с тонкими ноздрями.
— А это ваш, — сипло сказал Яков и показал на короткий, мясистый нос с широкими крыльями.
Прокурор, хоть в лицо ему кинулась краска, тонко усмехнулся.
— А вы, однако, остряк, — сказал он, — но это вам не пойдет на пользу. Судьба ваша предрешена. У нас гуманное общество, но мы умеем карать злостных преступников. Быть может, я должен вам напомнить — чтобы вы не забывались, — каким способом казнили вашего брата еврея в не столь уж отдаленном прошлом. Евреев вешали в шапках, полных горячей смолы, а рядом с каждым, чтобы показать людям все ваше ничтожество, вешали собаку.
— И палач стоил висельника, ваше благородие.
— Укусить не можешь, так зубы не показывай! — Шея у Грубешова побагровела, и он огрел мастера линейкой по челюсти. Линейка треснула, одним краем щелкнула по стене, Яков взвыл. Конвойные взялись колотить его по голове кулаками, но прокурор сделал им знак, чтобы перестали.
— Можешь звать теперь Бибикова до скончания века, — орал он на мастера, — я тебя в застенке буду держать, пока все кости у тебя не сгниют! На коленках будешь передо мной ползать, чтобы только позволил назвать, кто велел тебе убить невинного мальчика!
2
Боялся он, что плохо ему будет в тюрьме, так с самого начала и вышло. Такое уж мое счастье, думал он с тоской. Как это говорится? «Если бы я торговал свечами, никогда не садилось бы солнце». Но я, наоборот, Яков Бок, и оно садится, каждый час оно садится. Такому человеку, как я, жить опасно. Одно я могу сказать: надо меньше говорить, гораздо меньше, или я погублю себя. Да уже я погиб.
Здание Киевского острога, тоже в Лукьяновском, было высокое, мрачное, похожее на старинную крепость, и на большом грязном внутреннем дворе была со стороны железных ворот настоящая свалка — поломанные телеги, почернелые доски, гниющие тюфяки и еще груды песка и камней, подле которых заключенные иногда возились с цементом. Расчищенный же участок между большим тюремным корпусом и конторами служил для прогулок. Якова вместе с конвоем везли сюда на конке несколько верст от окружного суда, где он до тех пор содержался. В тюрьме кривой надзиратель приветствовал мастера: «А-а, кровосос, вот тебе и земля обетованная!» Старший надзиратель, тощий, узколицый господин с провалившимися глазами и четырехпалой правой рукой объявил: «Мы тебя накормим мукой и кровью, пока мацой не начнешь срать». Служащие и писаря высыпали из контор поглазеть на еврея, но смотритель Грижитской, старик на седьмом десятке, с жидкой изжелта-седой бороденкой, в мундире с эполетами и фуражке, толкнул какую-то дверь, ввел мастера к себе в кабинет и уселся за стол.
— Мне таких здесь не надо бы, — сказал он, — но делать нечего. Я слуга царю, должен исполнять его указы. Ты мерзейший из гадов еврейских — я читал о твоих подвигах, — но при всем при том подданный Государя Императора Николая Второго. И стало быть, вы останетесь у меня до дальнейших распоряжений. Ведите себя прилично. Будете подчинятся правилам, делать все, что вам скажут. Не то вам же хуже будет. Ни под каким видом не пытайтесь снестись с кем бы то ни было за пределами тюрьмы без моего ведома и разрешения. Нарушишь правила, пристрелят на месте. Ясно?
— И сколько я здесь пробуду? — через силу выговорил Яков. — То есть, я имею в виду, меня ведь пока не судили.
— Столько, сколько сочтут нужным вышестоящие власти. А теперь попридержите язык и ступайте вот за сержантом. Он вам расскажет, что надо делать.
Сержант с вислыми усами повел мастера по коридору, мимо тусклых помещений, где чиновники глазели на него из дверей, в длинную комнату с конторкой и несколькими скамьями и там приказал ему раздеться. Яков переоделся в светлый мешковатый, пропахший потом халат и обвислые дерюжные штаны. Еще ему дали рубаху без пуговиц и сношенное пальто, когда-то коричневое, наверно, а теперь серое, — чтобы укрываться или на нем спать. Когда Яков стягивал с себя сапоги, перед тем как влезть в арестантские коты, тяжелая тьма застлала ему глаза. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но нет, он им не доставил этого удовольствия.
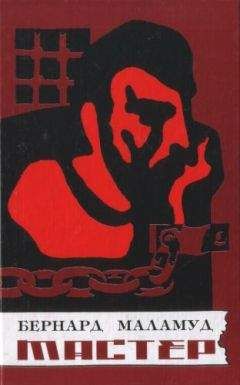


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)