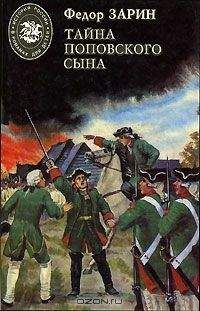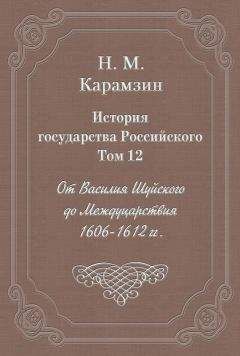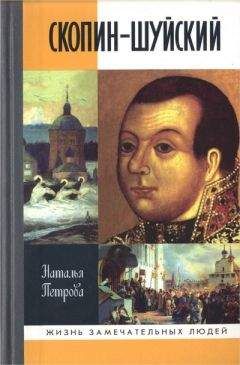— Если она раскачается, — вздохнул Татищев. — Ее не скоро уймешь.
— Поэтому в Кремле надо действовать быстро и решительно. И не дать расстриге явиться на Красную площадь. Если выпустите его, все пропало, чернь перебьет нас всех. Василий Васильевич, тебе в Кремле действовать, учти это.
— Я понимаю, Василий Иванович. Постараюсь.
— Теперь тебе задание, — обернулся к дьяку Осипову Шуйский. — Ударь в набат на Ильинке. Сможешь?
— Отчего бы и нет. Ударю, раз надо.
— Ну, кажется, все учли. Вот бы еще охрану дворца проредить. Миша, ты там вхож. Не можешь чего придумать?
— Я могу поговорить с Маржеретом, — сказал Скопин-Шуйский.
— Ты что, в своем уме, Михаил? Открываться врагу…
— Зачем открываться, дядя Василий. Я просто посоветую ему на эти дни сказаться больным.
— Ты думаешь, он не догадается?
— Да во дворце все уже догадываются, что вот-вот грянет беда.
— А царь?
— Наверное, и он тоже. Не зря же спешит в поход… Но от доносов отмахивается: «Не верю, народ меня любит». А с Маржеретом мы в очень хороших отношениях. Думаю, что послушается дружеского совета.
— Надо бы и царицу Марфу каким-то боком пристегнуть, Василий Васильевич, — подумай там.
— Как ее пристегнешь? Хотя, конечно, принародный отказ ее от расстриги многово стоит. Попробуем.
Обговорили, кажется, все детали, кому где быть, что делать. Поклялись стоять до конца и для этого выпили на прощанье братину — полуведерную ендову[35] вина, пустив ее по кругу.
— Ну укрепились братиной, запомните, начнем чуть свет семнадцатого мая. А тебе, Тимофей, до того надо обойти всех звонарей окружных у Кремля церквей и предупредить, что как ударят на Ильинке, чтоб били все разом. Ты человек уважаемый, они тебя послушают. Набат русских весьма вдохновляет.
Расходились также не все разом, а по одному, по двое. Голицыны уходили последними, во дворе стояли их подседланные кони. Шуйский пошел провожать. Когда спустились с крыльца, он, придерживая за локоть Василия Васильевича, молвил негромко:
— Вася, я надеюсь, ты не учудишь, как в Кромах тогда?
— Что ты, Василий Иванович, — смущенно отвечал Голицын. — Тогда было совсем другое. А ныне на кону голова, оглядываться не приходится.
— Я верю в твою смелость, князь Василий. Верю.
Братья Голицыны, Василий и Андрей, сели на коней, им открыли ворота, они молчком выехали, пригнувшись под верхней перекладиной.
Шуйский перекрестился, все же он не совсем доверял смелости старшего Голицына, не зря напомнил ему о Кромах. Тогда в Кромах восстало царское войско в пользу Лжедмитрия, а воевода Василий Васильевич, не надеясь на успех восстания, велел слуге связать себя и в случае чего, если Годунов начнет расследование, говорить, что воеводу повязали бунтовщики. Однако восстание удалось, войско перешло на сторону самозванца, и Голицыну пришлось развязываться и тоже присягать Дмитрию.
Сам он об этом не любил вспоминать (позор ведь!), но кто-то из слуг проболтался конюхам Шуйского. И вот, пожалуйста, всплыло в самый неподходящий момент. Пятно для фамилии, попробуй смой теперь. Но завтра в Кремле явится такая возможность, и, едучи верхом на коне к дому, Голицын даже мечтал: «Сам зарублю расстригу или пристрелю как собаку. Может быть, тогда Кромы забудут. Конечно, забудут». Мечты всегда слаще яви.
Отчего-то русские доносительством никогда не брезговали, возможно оттого, что оно, как правило, всегда поощрялось власть предержащими. Однако на Дмитрия после свадьбы свалилось столько доносов, что-де на него вот-вот покусятся, что он приказал не слушать их, а если уж очень доносчик настырен, то и сечь его: «Не толбочь, что не надо! Не оговаривай добрых людей!»
16 мая днем на правах родственника пробился к царю Мнишек. И когда они остались одни, заговорил:
— Сын мой, ваше величество, тебе грозит смертельная опасность.
— Ах, отец, я уже столько слышал об этом. Вон юродивая старуха Елена предсказывала, что меня убьют на свадьбе. Ну и что? После свадьбы уж неделя минула и я, слава Богу, жив и здоров.
— А ты знаешь, кто затевает это?
— Кто?
— Князь Шуйский с братьями.
— Но это же смешно, отец. Шуйский после помилования самый верный мне человек. Ты видел в церкви, когда мы с Мариной подошли к образам, а они оказались слишком высоко, кто нам подставил скамеечки? Шуйский. Именно князь Василий кинулся и подставил. Не слуги мои, не телохранители, а именно он догадался… Нет, он мне предан, отец, он помнит мое добро.
— Но мои гусары, вот смотри сколько доносов, — и Мнишек высыпал перед Дмитрием ворох записок. — Прочти, что они пишут.
— И не подумаю. Ваши гусары, отец, натворили гадостей москвичам, обозлили их и теперь боятся мести. Вот и пишут, чтоб я их оборонил. Мало им лакейских девок, так вон они средь бела дня вздумали боярыню сильничать, кобели.
— Но я умоляю тебя, прислушайся, сынок.
— Вы боитесь за своих гусар, отец, так и распоряжусь, чтоб у казарм выставили стрелецких сторожей.
— Себя побереги, Дмитрий, и жену свою.
— У меня в Кремле достаточно охраны, отец. Не беспокойся. Меня народ любит, а если ваших гусар припугнет, так это им на пользу. Не будут безобразничать.
Нет, не убедил тесть царственного зятя, не убедил. Хотел зайти к дочери, но раздумал: зачем пугать ребенка? Может, действительно, все обойдется, образуется.
День прошел спокойно. Дмитрий зашел в мастерскую, где умельцы делали по его приказу маски для маскарада. Примерил несколько, посмеялся вместе с рабочими над «харями». Похвалил:
— Хорошо сладили. Молодцы. За каждую по рублю получите.
После обеда царь призвал к себе стрелецкого голову Брянцева:
— Федор, выставь на ночь караулы у гусарских казарм.
— А они что? Безоружны? Сами себя укараулить не могут?
— Да нет, боятся, как бы ночью на них чернь не нагрянула. Мне докладывают, народ взбудоражен, обозлен на них.
— А к немецким казармам не надо ставить?
— Нет. Это народ серьезный, никого не обижали.
— До какого часу велишь держать посты у казарм?
— Да как рассветет, можешь снимать.
Брянцев ушел распоряжаться, а царь отправился на половину жены и пробыл у нее до ночи. Вернулся к себе поздно и обнаружил, что нет постельничего, позвал из соседней комнаты Басманова:
— Петр Федорович, где Безобразов?
— Не знаю, государь, он и не появлялся.
— Вот обормот, завтра явится, всыплю плетей. Не иначе у какой-нибудь девки застрял.
Безобразов ночевал у Шуйского, помирать вместе с другом детства Иван не хотел. Именно он и рассказал Шуйскому о расположении внутренних постов во дворце, их вооружении и времени смен. И он же подал мысль, как отсечь самозванца от народа.
— Как же ты решился, Иван, изменить ему?
— Надоело брехню его слушать, Василий Иванович. Я-то ведь знаю, откуда этот «царь» вылупился.
— Не вспоминали за далекое детство?
— Что вы, князь? Петька Бугримов вспомнил, так мигом в петлю угодил.
Еще не всходило солнце, когда Скопин-Шуйский провел через Сретенские ворота в город две сотни новгородцев, сказав приворотной страже, что действует по приказу царя, дабы усилить охрану. Кто ж не поверит царскому меченоше?
Царь, как обычно, встал рано, Басманов доложил ему, что все спокойно, ничего не случилось.
— А как у гусарских казарм? Не было столкновений?
— Нет, государь, все нормально.
— Ну и слава Богу.
Дмитрий прошел по дворцу, остановился у дверей царицы, прислушался, там было тихо. «Спит солнышко мое», — подумал с нежностью и пошел вниз. Вышел на крыльцо, встретил дьяка Власьева.
— Ну что, Афанасий, хорош денек? А?
— Хорош, государь, — согласился дьяк. — На небе ни тучки.
И в это время ударил колокол на Ильинской церкви.
— Что это? К чему? — спросил Дмитрий.
— Где-то загорелось, наверно, — предположил Власьев. — Москве это не в диво.
К ильинским колоколам добавились еще и еще. Царь воротился во дворец, встретив Басманова, сказал ему:
— Петр Федорович, узнай, что там случилось, где горит?
Новгородцев, вооруженных до зубов, встретили на Красной площади Шуйские и Голицыны. И сразу же во главе их направились к Фроловским воротам. Узнав едущих в Кремль князей, стрельцы не посмели их остановить, а когда на них бросились новгородцы, то тут же и разбежались. Захватив Фроловские ворота, заговорщики тут же побежали окружать дворец.
— Чтобы и мышь не выскочила, — командовал Василий Голицын и, повернувшись к брату, сказал: — Иван, сыпь к Марфе, спроси ее с пристрастием, что это сын ее или нет?
Василий Шуйский повернул коня назад на площадь, и прямо в проезде его схватил за стремя дьяк Осипов. Глаза у дьяка горели лихорадочно.