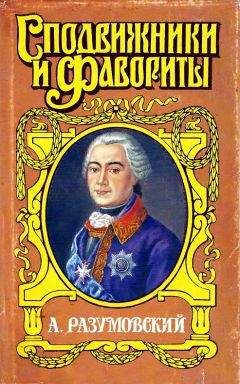— Алексей Григорьевич, — язвительным шепотком говорила. — Не из спальни ли кухаркиной вы явиться изволили?
— Нет, Елизавета свет Петровна, — и он отвечал тем же манером. — В подобных грехах не замечен.
— Почему ж парик на ухо съехал? Почему чернущее волосье произрастало?
— Так борода ж…
— Бородища, говори! Брадобрей? Где бороды бреющий Жак?..
Трезвон поднимался такой, что Жака и с полупьяну доставляли. Помнил он гнев петровский, а дочь чем лучше?
Камергера брили заново, бритва в дрожащих руках со свистом ходила. Помолись, садясь в кресло перед зеркалом. Как саданет по глотке-то!..
Но старый Жак и с потухшими, заплывшими глазами мог брить. Таким уж истинно русским брадобреем стал. Забыл, из какой цирюльни за шиворот его грозен царь выхватил да неумолимой рукой в Петербург перенес, — кажется, в Риге дело было, а может, еще где, какая разница. Все равно не мог Жак подводить память о своем грозном благодетеле: свое дело знал.
Как ни присматривалась уже снаряженная цесаревна, после повторного бритья ни к чему придраться не могла. Разве что для отвода души — парик!
— Скиньте с него это мочало… Новый.
Заменяли парик… на тот, что вчера не подошел для ее глаза. Сегодня — для другого гнева… Отходчива цесаревна. Авось не заметит.
А камергеру что? Как ни серчай, а знал он: под вечернее настроение самоличной ручкой снимет. Без парика-то больше нравится…
Но ведь сейчас — не вечер? С кудлами чернущими во дворец не пойдешь. Хотя коротко подстрижен, чтоб свое-то власье не вылезало или под цвет парика мешалось бы. Одно к одному подбирали.
По самому строгому наказу цесаревны.
Она теперь в деньгах удержу не имела. И в долги влезала, и личные именья под крепкой рукой управителя доход давали. Да появилось и содержание изрядное от царского стола, то бишь от горшка малютки Ивана Антоновича. За него, само собой, матерь властвующая щедроты раздавала. Само собой, не считая доходов-расходов: не царское это дело — цифирь трясти. Не хватает ни дня, ни терпенья, чтоб в платьях разобраться, даже на пару с такой же досужей цесаревной. То-то шелка, кружева да парча по всему будуару летали — горничные не успевали ловить.
Управитель Алексей Григорьевич, он же гоф-интендант, он же и камергер при цесаревне, в святая святых, разумеется, не ступал. И муж-то, Антон-Ульрих, не решался. Нет, на его мужской половине и коротал время. Мог приживальщик-муженек отвести душу с таким обходительным камергером?
— Проклятая немчура! — жаловался, забывая, что и сам той же крови. — Обсели правительницу… как тараканы, да, тараканы! А я кто?..
Красивый мужик этот, Антон-Ульрих. Ничего не скажешь, умеет одеваться: камзол озолочен и осеребрен, пальцы от каменьев огнем горят, парик — что плакучая ива, к воде ниспадающая, то бишь к плечам — целое утро чешут и поливают всеми возможными снадобьями. Как ни ухаживали за камергером Алексеем Григорьевичем перед поездкой во дворец, а его коротенький паричок убого выглядит рядом с такой расчесанной роскошью. Но настроение прекрасное. Дамы тут не мешают. Попивая из серебряного бокала винцо, камергер тоже непроизвольно вопрошает:
— Вас тараканы обсели, а кто ж меня?..
— Помилуйте, Алексей Григорьевич, — перевирая русские слова, пробует возразить Антон-Ульрих. — У вас положение известное…
— Управитель при царственной женщине?
— Но ведь я… я даже не управитель… при правительнице-жене!
— Несчастные мы люди, ваша светлость.
— Верно, Алексей Григорьевич… Как у вас говорят? Да, подкаблучные! Чем царственнее каблучок, тем хуже. Моя Анна совсем супружеские обязанности забывает…
— Ой-ей, ваша светлость… А моя так…
Камергер, будучи благовоспитанным, смущенно осекся. Хорошо, что герцог Антон-Ульрих не разбирался в тонкостях русских намеков. Его жалобам на жену-правительницу можно только поддакивать. Не приведи Бог в открытую говорить! Не успеешь выйти из дворца, как все переврут и переиначат. Дворцовые дела — не для него. Пускай цесаревна сама разбирается.
Кто он? Хохол?.. А хохлы всегда под дурачков валяют. Где уж русскому-то разобраться!
Были то не самые лучшие часы, что цесаревна проводила на женской половине дворца. Но — терпение, хитрован-хохол, терпеньице! Когда ему с женской половины приносили приказ спуститься вниз, он не особо спешил. Елизавета долго прощалась с правительницей; ему тоже было жаль напудренного, разодетого как напоказ герцога: не позавидуешь подкаблучнику…
Одно утешало: у цесаревны после таких визитов улучшалось настроение, и она уже на себя покрикивала:
— Чего нос вешаешь? Придет, придет и твой час!
Камергер Алексей Григорьевич понимал смысл ее дворцовых надежд, но предпочитал отмалчиваться. В карете ли, в санях ли — обычно не было горничной, но все ж… О чем говорить? Он вопрошающим взглядом просил ручку, и Елизавета уже без кокетства доставала ее из горячей собольей муфты.
Он бездумно припадал — и затихал головой на коленях. Следовало озабоченное удивление:
— Как ты дышишь, Алешенька!..
А как? Зверем, посаженным на ошейник. Сомом днепровским, пойманным за глупую губищу на крючок. Сиди и не трепыхайся. Губа у тебя не дура, но… знай свою меру. Не пыхти, как пыхтун запечный. Сладко? То ли не сладость, когда под париком взопревшим шарит услаждающая женская рука. Да что там — истинно царственная ручка…
В приливе такой нежности он и брякнул:
— Одного боюсь, моя господыня… Боюсь твоего царского гнева! Иль и тогда не прогонишь?
Она вздрогнула и уставила на него волоокие, ничем не защищенные глазищи:
— Не слишком ли много сказал, Алексей Григорьевич?!
Само покаяние ответствовало:
— Лишнее сказанул, государыня Елизавета Петровна. Но лишек этот со мной и умрет.
— Не сомневаюсь, Алексей Григорьевич. И все же… — Она прикрыла ладошкой ему рот. — Не торопи время: само придет, даст Бог…
В карете всегда висели две иконки. Его и ее, но сейчас она почему-то перекрестилась на промелькнувший храм Божий.
У Алексея так и опалило грудь: это была та самая церковь, где он начинал петь и где… Да, да. Где приметили и приветили его… и уж сколько лет возят за собой, хоть в карете, хоть в санях. Умер отец Илларион, по другим церквам, а то и по кабакам разбежались певчие — он один, верно, остался?
Выходило, что так. Давно уж он никого не встречал… Хотя — что это? Не пригрезилось?
У ворот цесаревниной усадьбы стоял самый настоящий хохол — в длинной суконной свитке, в алых шароварах, в низко приспущенных сапогах — и держал в руках смушковую шапку, то ли потому, что еще стояла теплая осень, то ли из вежливости.
— Кирилка?..
Забыв и руку цесаревне подать, Алексей вылетел из кареты.
Она ничего, спустилась с помощью кучера, даже ласково окликнула обнимающихся мужиков:
— Задушите друг дружку, гляди!
Они не сразу ее разглядели. Глаза полны были радостных слез. Но все же Алексей опомнился, пригнул голову братца:
— Кланяйся… Ниже! Ниже!
А куда уж ниже. Елизавета поняла смущение младшего Розума:
— Ну, гость желанный — писаный братец! Не заслонишь его?
Лукавый был вопрос, хотя и добрый.
Под их разговор издали кланялся и полковник Вишневский. Тоже ждал приглашения.
— Быть по сему! — откидывая плат, весело тряхнула золотой головой Елизавета. — Алексей, ты гоф-интендант? Так распорядись, чтоб все по-людски было. И полковника не забудь пригласить, — кивнула она Вишневскому, который сейчас же подбежал к ручке. — И меня не забудь. Я пока отдыхать пошла…
— Как можно, господыня! — повел он ее на крыльцо…
Немцы, слава Богу, истребляли друг друга не хуже русских…
Бирон из Шлиссельбургской крепости отписывал вину на Миниха: «…Нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую анбицию, и притом десперат и весьма интересоват. Також слыхал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит…»
Путался в русских словесах немец Бирон, но надо ж было себя спасать.
Не спас! Генералитетская комиссия, состоявшая из восьми человек (графа Чернышева, Хрущева, Лопухина, Бахметева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина-Самарина, Соковнина), без дальних разговоров приговорила: «Казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну». Генералы не забыли, как он четвертовал бывшего канцлера Артемия Петровича Волынского…
Разумеется, из императорской колыбельки последовало снисхождение: «Как мы по природному нашему великодушию…»
Да, да.
«…По отписанию всего имения на нас в вечном заключении содержать…»
Ах, милость, царская милость, подписанная вместо малютки нежной ручкой Анны Леопольдовны!