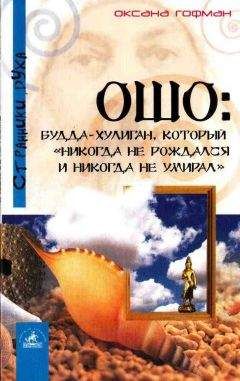class="p1">Он выполнил то, что обещал. Стрела разорвала щит в клочья.
После этого молодые люди взяли в руки широкие, со сверкающим лезвием, острогранные мечи и стали пробовать силу, отойдя к темной стене леса. Девадатта срубил высокую стройную пальму в шесть пальцев толщиной, это считалось лучшим достижением, пока не наступила очередь Сидхартхи. Он выбрал толстое, уже засохшее дерево с двумя сросшимися стволами и взмахнул мечом… Но старое дерево точно бы не почувствовало удара, наверное, так и было, сделалось мертвое и отодвинутое от боли, прежде ощущаемой им, царевич и выбрал его, что знал про древесную помертвелость. Но знал это и Бог Агни и добрые духи, они слетели с неба и внимательно наблюдали за состязаниями. Впрочем, не они одни… Шнырял между людьми и вездесущий Мара, и приближенные к нему злые духи. Все они с возрастающим интересом следили за тем, что происходило, а еще друг за другом, опасаясь вмешательства в земные дела кого-либо из них. И было противостояние отчетливо зримо и едва сдерживаемо. Между Богами нетерпение усиливалось. И, когда казалось, обратилось в море и потекло в разные стороны, неодолимое, случилось успокоение, ветер приник к земле и облака посветлели. Но это длилось недолго. Как бы в предчувствии неизбежной схватки небо сначала очистилось, а потом потемнело, засверкали молнии, тучи стали разбиваться, ударяясь друг о друга, и высекать искры.
И скоро нельзя было разобрать, где пускает огненные стрелы Агни, а где неистовствует Мара, сделалось смутно и темно, различимо для узнавания и наблюдения за тем, что совершалось. Впрочем, отмечалось в людях и удивление, вызванное неожиданно разбушевавшейся стихией. Время для периода Васс еще не наступило, и хлынувший с неба дождь и громыхание выглядели странно, загадочно. Это, наверное, обеспокоило бы сакиев, если бы они не были так увлечены. И оттого, когда небо очистилось и засияло солнце, никто не обратил на это внимания, точно бы никакой перемены в природе не случилось, и Агни, победивший Мару, слегка обиделся, но быстро успокоился и улетел, зная, что спор на земле уже решен Богами.
А старое дерево с двумя сросшимися стволами не трогалось с места, можно было подумать, что Сидхартха не справился с заданием. Так все и подумали, и кое-где огорченно вздыхали, а кое-где откровенно радовались. К дереву подошел, отделившись от пестрой толпы, окружившей Девадатту, горшечник Малунка. Неприметно посмеиваясь, отчего в круглом, лоснящемся от пота лице с мелкими, едва угадываемыми чертами что-то сдвинулось, зашевелилось, он прислонился к дереву, попытался выразить сочувствие Суддходане, все другое царь сакиев воспринял бы с досадой, а с ним хитрому горшечнику совем не хотелось ссориться, но слова застряли в горле, это когда дерево вдруг покачнулось и упало… Люди закричали, загомонили, подталкивая друг друга и не сдерживая радости, хотя вроде бы чего же проще для них, выросших в суровости и в привычке к сокрытию собственных чувств.
Начались скачки. Быстроногий Кантаки царевича, подготовленный к состязаниям Чандрой, не имел соперников.
В тот день по давней традиции объезживали дикого жеребца. Ноздри у него были раздутые и глаза пылали. Робость пробежала между людьми, она усилилась, когда увидели, как жеребец с легкостью необыкновенной сбрасывал с себя молодых людей. А ведь многие из них имели табуны и знали про лошадиный норов не понаслышке. Все были поражены, когда жеребец, стоило Девадатте вскочить ему на спину, взвился на дыбы, а потом, изогнувшись, стянул его с себя, схватив за ногу. Девадатта вскрикнул и не сразу поднялся с земли. Люди решили, что никто не справится с жеребцом, но тут царевич быстро приблизился к нему, с трудом удерживаемому на туго натянутых веревках конюшенными, зашептал что-то на ухо, и жеребец сник. Сидхартха запрыгнул на него и раза два проехал по кругу, после чего передал уздечку служителям конюшен. В толпе опомнились, закричали:
— Сидхартха достойнее других!.. Сидхартха! Сидхартха! Он победитель!
Ясодхара, радостная оттого, что случилось так, как она хотела, а еще потому, что любимого называли Победителем, то есть тем именем, каким был награжден лишь один человек — лучезарный Джина, взяла у слуг большой венок, как бы переливающийся разноцветьем, сплетенный из цветов могры, и, подойдя к царевичу, надела ему на шею и прислонилась к его груди. Это означало ее согласие стать женой сына царя сакиев. Все засуетились, пошли во дворец. Начался пир. В большом зале поставили высокий, обшитый золотом трон, посадили на него молодых, предварительно перевязав им руки мягким и легким шелковым кушаком. Разломили сладкий пирог, принесенный слугами, рассыпали рис, разлили пахучее розовое масло по углам. Брамины, приглашенные царем сакиев, взяв две соломинки, опустили их в чашку с молоком. Все затаили дыхание, следя за движениями жрецов, а те тоже были в напряжении, наблюдая за соломинками, которые двигались по кругу. Но вот соломинки, дрогнув, начали сближаться, наконец, соединились. Это означало, что молодые будут любить друг друга, пока сохраняются в них силы.
— Ом!.. — сказали брамины. — Велика твоя сила, о Агни, дарующий свет и радость жизни!
А потом связали одежды жениха и невесты, раздали дары нищим. Это сделалось сигналом для жителей Капилавасту. В священных храмах запели гимны в честь торжества жизни, которая неизменна в своем совершенстве: она отыскивает все новые и новые формы. Были принесены обильные жертвы Богам. Поднялся со своего места могучий Дандарани и, подойдя к трону, где сидели жених и невеста, сказал сильным голосом, чуть склонив крупную седую голову:
— Отныне Ясодхара твоя, о, царевич. Жизнь ее принадлежит тебе, и мысли, и чувства. Будь добр к ней и снисходителен.
Сидхартха понимал себя как часть сущего. Вначале это было независимо от него, не подчиняемо чему-то, хотя бы сознанию. Невольно возникшее, такое понимание жило в нем, понемногу меняясь, приобретая все большую зависимость уже не только от собственных чувств, а и от мира, что окружал его и казался вполне осязаемой реальностью. Потом и тут стало что-то сдвигаться, появилось ощущение какой-то знаковости, ну, точно бы расставили вокруг метины и при необходимости обращались к ним, причем не только люди, а и звери, и птицы. В этом обращении они находили упрочение своей сути, которая тоже есть знак. Они разнились друг от друга, и это несомненно, как несомненно и то, что они имели одни корни, присущую всем одинаковость. Бывало, Сидхартха улавливал в себе иную жизнь, не ту, которой жил. Она, доселе незнакомая, неожиданно делалась понятной, а зачастую и близкой. Надо сказать, это относилось не только к людям, порою совершенно незнакомым,