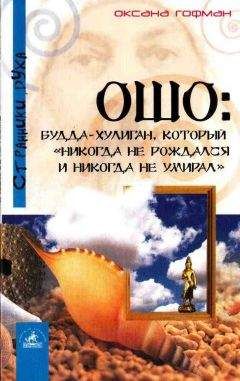и знает им цену,
Зачем ей закрывать лицо?
Все риши ближнего мира знают про мои намеренья,
И Боги, способные читать мысли людей,
Знают про мои намеренья, про уменье
Быть воздержанной и скромной.
Зачем мне закрывать лицо?.».
Она написала Гатас и долго никому не показывала, а потом как бы позабыла про него. Но однажды, когда они с мужем сидели у высокого окна и смотрели, как по ту сторону лил дождь и по черной земле бежали мутные ноздреватые потоки, а воздух за дворцовой стеной точно бы загустел, даже отсюда чувствовалась зависшая надо всем духота: и над поникшими деревьями, и над прибитой травой, и над видимым, а также и невидимым из окна миром, — попробуй развеять эту духоту, попробуй растолкать!.. — вот тогда в душе у Ясодхары что-то сдвинулось, сделалось грустно, и она, сама того не заметив, прочитала стихи. Эти стихи совсем не относились к тому, что открывалось перед нею, однако ж вполне соответствовали разлитому в природе настроению.
Сидахртха выслушал со вниманием, и не было в его облике ничего, что сказало бы об удивлении. А Ясодхара решила, если заметит в лице у мужа что-то хотя бы издали напоминающее удивление, обидится и уж постарается показать ему свою обиду. Но она ничего не заметила и облегченно вздохнула. Она еще и потому облегченно вздохнула, что почувствовала в муже одобрение своему занятию. И это было для нее в диковинку. Отец и братья, все близкие не одобряли ее увлечения, полагая никому не нужным, а ей в первую голову.
Ясодхара закрыла глаза, покой, что раньше жил в ней, а теперь оказался стронутым с места и отступившим, к счастью, недалеко, снова завладел ею. Она сидела, закрыв глаза, и мысленно видела мужа и себя на супружеском ложе и как бы заново переживала ту сладость и нестерпимую нежность, которую испытывала к царевичу. Казалось странно и сумасшедше, что боялась его, боялась ожидавшейся близости, за которой невесть что воображалось… А все было так естественно и сладостно, что сделалось тревожно: вдруг тут что-то поменяется, и она уже будет не она, с охотой подчиняющаяся его рукам, и он станет другим… Она не могла бы сказать, откуда возникли эти мысли. Точно бы кто-то посмеялся над нею, угрожал поломать сделавшуюся устойчивой перемену в душевном состоянии. А может, это Мара стремился внести в ее сердце смятение? А может, брамин Джанга? Она помнит, как он смотрел на нее… Что-то откровенно недоброе было в его глазах, когда он смотрел на нее, точно бы она провинилась перед людьми, перед ним. Ясодхара силилась вспомнить, когда же она могла обидеть кого-то, но так и не вспомнила. Она никому не причиняла зла, не умела этого делать и смущалась, если должна была сказать хотя бы и подневольному человеку что-то неприятное. Да, она не отыскала в памяти ничего, почему бы почувствовала себя виноватой, и вздохнула, мысленно спросила: «Что же тогда брамину Джанге от меня надо?» И не нашла ответа и постаралась забыть о неприятном.
Ясодхара была дочерью своего народа, а народ ее ни в какое время не владел несметным количеством золота или драгоценными камнями. Зато в нем отмечалось достоинство, это выражалось в особенном отношении к людям пускай и чужого племени. В каждом из них сакии признавали право иметь свою веру. Они никому не завидовали, даже государству Кошале, соседствующему с ними, где государи кичились и хвастались сокровищами, чаще отобранными у дальних беззащитных народов.
Сакии хотели бы жить своей жизнью и поклоняться Богам. Ясодхара была из их рода и не желала думать худо о брамине Джанге и, кажется, смогла бы поступить так, если бы вдруг не вспомнила, сколь угрюм и тяжел был взгляд у него, обращенный на ее возлюбленного. Улучив момент, она сказала об этом мужу, а еще о толстом круглом Малунке, тот во время свадебных состязаний крутился возле Джанги и нашептывал ему что-то явно направленное против царевича.
Сидхартха выслушал и лишь грустно улыбнулся, но грусть была легкая и ни к чему не обязывающая, скоро растаяла, и он мог думать только о любимой. Эти мысли придавали всему сущему в нем удивительный блеск, он сам точно бы чувствовал сияние, исходящее от него, чему она стала причиной. С ним случилось преображение, светлое и диковинное. Даже он, живущий в предощущении будущего, понимающий про него, как если бы ожидаемое было вовсе не ожидаемое и предугадываемое им, а теперь совершаемое и уже имеющее название, не мог предположить, что внесет в его жизнь Ясодхара, а увидев, отнесся к этому с огромным волнением, впрочем, никем не замечаемым и понятным лишь ему. Однако и то приятно, что волнение, в сущности противное его душевному устроению, испытывалось недолго, стерлось, как бы смутившись. Все же царевич не забыл о словах Ясодхары, но ничего не сказал, что-то в нем воспротивилось, родилась четкая мысль, что она сказала ему про качели. Все в жизни, как на качелях, сказала она, где на одной стороне добрые дела, на другой злые. Между ними существует равновесие, никто не в силах изменить тут что-то. Ну, а если перевесят злые дела? Тогда на земле сделается чуждо сущему, враждебно ему. Это смутило Сидхартху, но не только враждебность зла сущему, а и то, что, если перевесит добро, то и тогда в жизни произойдет нечто враждебное сущему, лишь кажется, что сделается одно благо. На самом-то деле совсем не так, скорее, наоборот, откроется возможность для грядущей победы зла. Ведь добро, оказавшись во множестве и лишившись противодействия, поневоле ослабнет и будет не в состоянии постоять за себя.
Что же получается, думал Сидхартха, значит, добро и зло непременно должны соседствовать, иначе жизнь затвердеет, обратится в камень, а сущее потеряется в пространстве, обратившись в свою первоначальность?..
Это беспокоило, пришла неудовлетворенность собою, она часто ощущалась им и шла от чувства вины перед людьми.
О, сколько раз он, благополучный и ни от чего не страдающий, лишь изводящий себя вопросами, а то и сомнениями, вдруг думал, что ему хорошо, а многим из людей плохо, и они не рады своей форме существования и с удовольствием поменяли бы ее. Но кто скажет, что та, предполагающаяся ими форма будет лучше, чем прежняя? А что если он в другой жизни обратится в малую тварь, не ведающую ни про солнечные лучи, ни про земной ветер, ни про тихую прохладу лесного ручья? Или в судру, или в чандалу? А