Яков сжал его руку, он хотел прижать ее к губам, но Бибикова уже не было.
6
Кого-то беспокойного, отчаянного посадили в соседнюю камеру. Едва его заперли, он стал колотить сапогом или обоими сапогами в стену. Стук доходил отчетливо, Яков постучал своим котом в ответ. Но крик из-за стены превратился в шум, не в слова. Но они перекрикивались, в разное время, днем и ночью, орали изо всей мочи — мастеру казалось, что кто-то пытается ему излить истерзанную душу, и он всем сердцем хотел услышать его, рассказать ему про себя; но все эти крики, вопли, вопросы сквозь стену были смутны, невнятны. Как, мастер это понимал, и его собственные крики.
Одиночки были узкие, вытянутые, стены из кирпича и бетона, и в наружной стене — густо зарешеченное оконце в полуметре над головой арестанта. Дверь была плотная, литого железа, с глазком на уровне глаз, в который, когда бывал на месте, засматривал стражник; и хоть Яков все разбирал, что рявкали ему из коридора, но когда один из запертых пытался докричаться до соседа через свой этот глазок, ничего нельзя было разобрать. Щели были узкие, да и коридорное эхо заглатывало слова, накрывало бессмысленным гулом.
Раз как-то стражник с темным лицом и тупым взглядом застукал их из коридора за перекрикиванием и наорал на обоих. Тому арестанту он приказал заткнуться, не то он размозжит ему череп. Якову он сказал: «Тихо чтоб тут у меня, щас х… твой жидовский отстрелю». Он ушел, и оба стали опять колотиться в стену. Стражник являлся один раз на дню, приносил водянистое варево с плавающими тараканами, ломоть затхлого черного хлеба; а то нагрянет с проверкой, не угадаешь когда. Яков, скажем, спит на полу, или он меряет шагами убогую камеру, или сидит у стены, уткнув подбородок в колени, забывшись в ужасных своих мыслях, — и вдруг он чувствует на себе колючий взгляд, который сразу же и отстраняется от глазка.
По скрежету и грому дверей, отворяемых по утрам, когда стражники с помощниками разносили еду, Яков сообразил, что в этом крыле их двое всего заключенных. Тот, другой, был от него слева, а справа стражник отходил на пятьдесят шагов к еще одной двери, отпирал ее ключом, потом с тупым стуком захлопывал и запирал снаружи. Бывало, рано поутру, когда огромная тюрьма тонула во тьме и молчании, хотя сотни, а то и тысячи заключенных стонали, бредили, храпели, пердели во сне, обитатель соседней камеры просыпался и начинал дубасить Якову в стену. Тарахтит-тарахтит, быстро так, а потом вдруг медленно, будто старается обучить Якова какому-то коду, и уж как Яков старался, считал удары, пытался перевести их на буквы русского алфавита, но ничего у него не выходило, и он клял себя за бестолковость. Он тоже стучал — да какой смысл? Бывало, они, оба разом, слепо колотили в стену.
Эта одиночка была для мастера самым тяжелым испытанием. Нет у него такого ума, думал он, чтобы все время быть одному. Когда на двенадцатое утро стражник принес похлебку и хлеб, Яков взмолился о послаблении. Он получил свой урок, теперь он будет подчиняться всем предписаниям, только бы вернули его в общую камеру, где можно хотя бы увидеть человеческое лицо, идет какая-то жизнь. «Если бы вы это передали смотрителю, я был бы вам благодарен от всей души. Трудно, знаете, хочется когда-никогда словом перекинуться с человеком». Но никто из стражников ничего ему не отвечал. Им же буквально копейки бы не стоило передать его слова по начальству, так разве от них дождешься? И Яков погрузился в молчание, и порой мечталось ему, что вот он на Подоле, с кем-то болтает. Стоит, например, под каштаном, в том дворе, с Аароном Латке, и говорит, как плохи дела. (Но как же плохи, когда человек на свободе?) Несколько бы слов всего сказать по-людски, лучше, конечно, на идише, а можно по-русски. Но раз о свободе в данный момент не могло быть и речи, был бы у него хотя бы с собой инструмент, он за одно бы утро проделал дыру в стене, поговорил бы с соседом и, может, даже лицо бы его удалось увидеть, если чуть-чуть отступить. И рассказывали бы они друг другу про свою жизнь, месяцами рассказывали, а потом, если надо, начинали бы все сначала. Но сосед, то ли отчаялся, то ли он заболел, совсем перестал колотить в стену, и оба они уже ничего не кричали.
Если он и забыл про того человека, вдруг пришлось ему вспомнить. Однажды ночью дальний вопль вторгся в его сон. Он проснулся — и ничего не услышал. Мастер постучал в стену тяжелым котом — и не было ответа. Кажется, были шаги в коридоре, снова сдавленный крик опять его разбудил, ужаснул. Что-то случилось, подумал он, куда же мне спрятаться, куда же мне деться? Заскрежетала дверь рядом, и были шаги в коридоре — сразу нескольких человек. Яков весь напрягся в кромешной тьме, откройся дверь, он заорал бы, но шаги прошли мимо. Тяжелая дверь в дальнем конце коридора глухо стукнула, ключ повернулся в замке, и на этом кончился шум. В страшной тишине мастер не мог уснуть. Он колотил в стену обеими больными ногами, орал до хрипоты, но не дождался ответа. Наутро ему не принесли еду. Подыхать оставили, решил он. Но в полдень пьяный стражник пришел с похлебкой и хлебом, что-то ворча себе под нос. Половину похлебки он пролил на Якова, пока тот у него принимал миску.
— Русских мальчиков убивает, а ишь ты, — воняя перегаром, шипел стражник.
Когда стражник ушел, до мастера, очень тщательно пережевывавшего хлеб, вдруг дошло, что тот ведь не запер дверь. По спине поползли мурашки. Вскочил, замирая, просунул пальцы в смотровую щель и чуть без памяти не упал, когда дверь медленно подалась наружу.
Яков весь дрожал от смятения и страха. Выйду — так наверняка же пристрелят. Кто-то стоит, ждет. Глянул в щель — никого. Тихо прикрыл дверь, затаился.
Так прошел час, может, и больше. Опять он приотворил скрежещущую дверь и на сей раз быстро глянул наружу. Направо, в конце коридора, тяжелая дверь была приоткрыта. Что такое — стражник спьяну и эту забыл запереть? Яков прокрался на цыпочках по коридору, остановился в нескольких шагах от той двери, кинулся обратно. Но в свою камеру не зашел. Опять он приблизился к той тяжелой двери, вдруг одумался. Бросился к своей камере, вошел туда, захлопнул дверь. И стал ждать, и его бил озноб, и сердце все сильнее болело. Никто не шел. И тогда мастер понял, что стражник оставил ту дверь открытой нарочно. Предположим, он в нее входит, крадется вниз по ступеням, ну а внизу поджидает другой, тот, с тупой рожей. Посмотрит, взведет пистолет. И начальство потом запишет в тюремном журнале: «Заключенный Яков Бок убит выстрелом в живот при попытке к бегству».
И все же мастер снова скользнул в коридор, замирая от чувства свободы, но на сей раз пошел он в другую сторону. Б-г ты мой, как же он раньше не догадался! Осторожно оглянулся направо, налево, потом посмотрел в глазок к своему соседу. Кто-то, с бородкой, медленно раскачивался на кожаном ремне, закрепленном на средней перекладине открытого окна, а рядом валялся опрокинутый стул. Глаза были уставлены вниз, где его пенсне лежало разбитое под болтающимися маленькими ногами.
Долго, долго не мог мастер поверить, что это был Бибиков.
1
В светящейся тьме приходил к нему Бибиков в белой большой шляпе. Пенсне не сидело у него на носу, не было пенсне, и он растерянно тер переносицу.
— Ужасная произошла вещь, Яков Шепсович. Эти люди без чести, без совести. Боюсь, как бы и с вами они не расправились.
— Нет, нет! — кричал Яков. — Я не верю в привидения!
Следователь закуривал розовую папироску, посидит, помолчит; потом что-то хочет сказать и начинает таять. И медленно исчезает во тьме, бело мерцая, будто вечер настал, а потом ночь; и нежное свечение папиросы тускнеет, тускнеет, пока совсем не погаснет. И только страшный образ останется: как он висит, и выкаченные глаза смотрят в пол, на раздавленные стекла.
Всю ночь сидел мастер, скорчась в углу камеры, и в ужасе ждал смерти. Заснет на минуту, и сон наполняется запахом, вкусом и страхом смерти. Вот он, недвижный, лежит на кладбище, закоченелый, подавленный ужасом. В черном небе горят черные звезды. Шевельнешься — свалишься в раскопанную могилу, а там гниют мертвецы, там клочья мяса, там темные кости. Но еще больше смерти боялся он пыток. Боялся, что будут его терзать и рвать перед смертью. Втащат в камеру жуткие свои инструменты, машины, деревянные, страшные, они крушат человеку кости, кромсают живое мясо; и на оконной перекладине вывесят труп. На рассвете, когда его касался грязный взгляд из глазка, он просыпался от жуткого сна и молил о пощаде. Дверь скрежетала — он вскрикивал; но стражники его не душили. Дежурный вталкивал ногой миску с варевом, без единого прусака.
Весь день метался мастер по камере, иногда пускался бегом, пять шагов, три шага, пять, три, а то, прерывая свое топтание по кругу, кидался на стену или разбивал кулаки о железную дверь с долгим, тоскливым воем. Он оплакивал Бибикова, горько оплакивал. Неделями только Бибиков один и поддерживал Якова, жил в его мыслях возможный спаситель, справедливый, благородный человек; он бы выручил его из тюрьмы, из этой ловушки, капкана этого, освободил от самого преступления, от мерзкого навета. В этих мыслях было единственное утешение Якова: добрый человек помогает ему, и с его помощью, когда будет суд, Якова оправдают. И будет он на свободе, и помчится к себе в штетл или, если сумеет собрать средства, подастся в Америку. Где они теперь, эти ожидания, надежды, мечты; он ими дышал, а их у него вырвали без предупреждения. Кто теперь его выручит? На кого ему теперь полагаться? В том месте души, где так прочно засел Бибиков, теперь, гиблая, зияла дыра. Кто теперь изобличит убийц, Марфу Голову и ее дружков, кто объявит о его невиновности журналистам? Если, скажем, она удрала из Киева, перебралась в другой город, а то и в другую страну, — кому теперь надо ее разыскивать? И как же теперь люди узнают о беззаконии против невинного человека? И кто его выручит, если никто во всем белом свете, кроме тюремщиков, не знает, где он? Никому он не нужен, Яков Бок, он — ноль, его нет. Предположим даже, они не собираются его убивать, так они медленно его доконают, похоронят заживо, навеки в этом застенке.
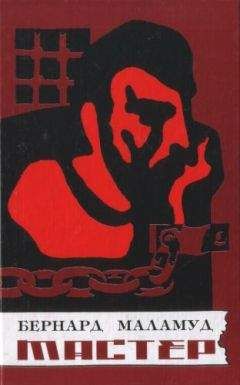


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)