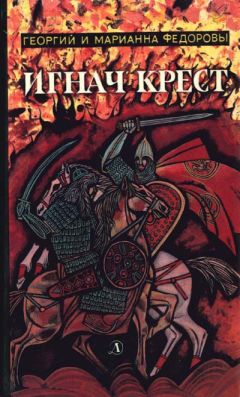— Когда же настанет время?! — сдерживая бешенство и краснея от ярости всеми веснушками, вскричал Михаил Моисеевич.
— Придет срок, жди! Сам еще не ведаю когда, но придет, — ответил посадник тихо, но внушительно.
Михаил Моисеевич покачал головой, как норовистый конь, не желающий надевать узду.
— Не поймешь тебя, Иван, — сказал он, вперя в посадника голубые с рыжими крапинками глаза и глядя на него в упор. — Так будет от Новгорода помочь или нет? Ведь люди в обеих градах, и верхнем и окольном, уже совсем изнемогли. Ты же сам из новгородцев, так что же, они и тебя и нас покинули, оставили без подмоги?
Иван Дмитриевич набычился и ответил столь же решительно, не отводя глаз:
— Не нам должен оказать помочь Новгород, а мы должны ему помочь. Понятно?
— Как это?..
— Да так. Нас уже никто не спасет. Поганых под Торжком несть числа, да еще идет сюда войско Батыя. Но чем доле мы продержимся, тем более дадим Новгороду времени, чтобы собрать силы, подготовиться ко встрече с грозным ворогом. Покажем же, как бьемся мы, люди новгородской земли. Сие поубавит у таурмен охоты идти на него. Чем доле продержимся, тем меньше у них останется такой охоты.
Михаил Моисеевич вдруг как-то весь осунулся, подобрался и хрипло спросил:
— Каковы будут на сей день твои приказы?
Посадник не успел ответить, как в горницу ввалились сразу несколько баб, ведя пойманного ими лазутчика в окровавленной и изодранной одежде. Тот не сопротивлялся, но, увидев посадника, сразу же вырвал руки, снял с шеи оберег и протянул его Ивану Дмитриевичу.
Повертев оберег в руках и близоруко щурясь, тот сказал удивленно:
— Оберег как оберег, что в нем особого?
— Ты открой его, боярин, — сказал пленный, вытирая кровь с разбитой губы тыльной стороной ладони.
Посадник подошел к свету, падавшему через узкое оконце, открыл оберег, достал тоненький свиток бересты и стал разворачивать, но никакой надписи не было. Он хотел уже бросить пустую бересту, когда заметил наконец в самом ее конце слова. «Поклон Ивану от Алексы. Доверяй сему», — прочел он, медленно шевеля губами.
Пока посадник читал, Митрофана опять схватили и заломили руки назад.
— Где вы его поймали? — спросил Иван Дмитриевич.
— Из колодца, что недалеко от Тайнинской башни, появился, тут мы его и схватили, а он говорит — ведите к посаднику, — загалдели бабы.
— Выходит, ты новгородец, а наш потайный ход знаешь… Как же тебе удалось через войско поганых пробраться? — оборотился Иван Дмитриевич к лазутчику.
— Закопал лыжи и белый балахон в снег, а сам пристал к пленным, которых выводили рубить сосну для тарана.
— А сам-то ты кто будешь?
— Я холоп обельный посадника новгородского Степана Твердиславича Михалкова, а прибыл под стены Торжка с его дочерью боярышней Александрой и ее воями. Ты небось узнал на бересте ее руку. Она меня сюда и послала с поручением.
— Говори, что за поручение!
— Только тебе одному.
Иван Дмитриевич махнул рукой, и бабы, с большим неудовольствием отпустив «лазутчика», направились к дверям, бормоча ругательства, и довольно крепкие.
Митрофан покосился на Михаила Моисеевича, но посадник успокоил его:
— При нем можно. Говори!
И Митрофан передал просьбу боярышни, чтобы новоторжцы устроили вылазку, и обязательно с полуденной стороны, рассказал, что вылазку надо начинать, когда перестанет бить главный порок в ворота нижнего города, который должны заставить замолчать люди из ее отряда. Тогда новгородцы подожгут греческим огнем тын, возведенный погаными вокруг города. В прожог уйдут, сколько смогут, пленные и жители Торжка.
— Вот видишь, — победно взглянул посадник на Михаила Моисеевича, — а ты говорил, что нет помочи от Новгорода.
— Сколько же вас там? — спросил с затаенной надеждой Михаил Моисеевич.
— Со мной осталось тринадцать. Был еще князь Андрей, но он ранен или убит, — понуро ответил Митрофан. — Но вы не подумайте, — встрепенулся он, — с нами рыцарь Иоганн и староста Бирюк да его храбрые молодцы-охотники. Боярышня сказала, надо торопиться, пока войско самого Батыя не подоспело на помощь Субэдэю.
— Вот и пришло время для твоих златотканых, — заключил со вздохом посадник. — Иди, Михайло Моисеевич, готовь их к бою. Выйдите в поле по моему сигналу через тайный проход. Пусть бьют в бубны и варганы! Чтобы все было готово в одночасье! И ждите меня у собора.
Когда Михаил Моисеевич вышел, Иван Дмитриевич поманил холопа и усадил его рядом с собой на лавку:
— А ведь я тебя узнал, тебя Митрофаном кличут, верно?
— Верно…
— А теперь слушай внимательно. — И посадник слегка понизил голос, хотя в просторных хоромах никого не было. — Еще семьдесят пять лет тому, при новгородском архиепископе Иоанне, сорок мужей новгородских ходили в святую землю поклониться гробу Господню; получили в Иерусалиме от патриарха благословение и святые дары. Когда они в Новгород вернулись, то передали свои дары Святой Софии, да не всё: часть отвезли в Русу, а часть новоторжцам, в Борисоглебский храм. Там до сей поры хранилась чудная серебряная чаша. Она одна всех остальных сокровищ монастырских стоит, да и не только монастырских. — При этих словах посадник еще больше понизил голос, слова его, казалось, с трудом пробивались сквозь опаленную седую бороду и нависшие над полными губами сивые усы. — Еще перед тем как поганые осадили наш город, игумен Борисоглебского монастыря отец Ферапонт, мир праху его, — и Иван Дмитриевич широко перекрестился, — принес мне чашу сию и велел хранить как зеницу ока. Только ты можешь спасти ее. Тебе ведом тайный путь, по которому ты пришел, по нему и уйдешь! Отдашь кубок чудотворный боярышне Александре в собственные руки, а уж она найдет, где его спрятать.
— А как убьют меня или поймают?
— Не поймают. Как только мы вылазку начнем, так ты сразу беги и пробирайся к своим. Какой хочешь ценой, а чашу сохрани!
После этих слов посадник встал и позвал неожиданно мощным басом:
— Авдотья Саввишна!
Дверь почти тут же приоткрылась, и в хоромы вошла, неслышно и легко ступая, жена посадника, совсем еще молодая женщина со смуглым миловидным лицом и яркими губами сердечком, как всегда чистенькая, словно сразу после баньки. Она отвесила низкий поясной поклон хозяину и гостю и тихо спросила:
— Зачем изволили кликать, батюшка?
— Где чаша святая? — без обиняков спросил посадник.
Авдотья Саввишна молча покосилась на Митрофана, но Иван Дмитриевич нетерпеливо прикрикнул:
— Говори! Куда ты ее спрятала?
Авдотья зачастила округлой низовской скороговоркой:
— Кубок сей ночью зарыла я в холмик над могилкой возле одной церкви: говорят, поганые знают, что христьяне покойников без вещей хоронят, и могилы посему не трогают.
— Твоими бы устами да мед пить, — вздохнул Иван Дмитриевич. — Только надежды на это мало. Придется тебе, Авдотьюшка, ларец выкопать и сюда принести — Митрофан чашу сию спасет и сохранит. Он муж честный, даром что холоп, а новгородец истинный, и будет ее блюсти. — Посадник говорил сурово, но глаза его, полуприкрытые густыми, еще темными бровями, выражали совсем иное.
— Как знаешь, батюшка, — снова легко вздохнула Авдотья Саввишна.
— Дети-то наши как? — ласково спросил посадник.
— А что им? — с деланной беспечностью ответила Авдотья Саввишна. — Иванка с Порфишкой целые дни из своих игрушечных луков стреляют да все норовят на заборола залезть, Федора боится на двор нос высунуть, в подклети сидит и в куклы играет, раны им перевязывает и песни поет.
— И то дело, — усмехнулся посадник. — Иди, Авдотья, да быстрее возвращайся и не дивись, что за тобой следом два воина пойдут, как только с крыльца сойдешь. Это я их к тебе приставил — за чашу святую ты теперь перед всей новгородской землей в ответе.
Так же тихо, как пришла, Авдотья Саввишна неслышно исчезла. Посадник посмотрел ей вслед и задумался. В непростой и нелегкой его жизни, полной напастей, когда казалось, хуже и быть уже не может, проглянуло для него солнце и до сих пор согревает, разгоняя кровь в его стареющем теле, веселит сердце и ум. Первый раз Иван Дмитриевич женился рано. У него росли уже два отрока — один другого краше, когда во время пожара, которые то и дело вспыхивали на новгородских улицах, сгорел весь его двор и дом. Жена спасла обоих сыновей, успев выкинуть их сквозь гудящее пламя на улицу, а сама погибла. Иван Дмитриевич сильно закручинился, стал молчалив и нелюдим. Сыновей до поры растили его отец с матерью. А потом, как стали старше, пошли они по ратному делу. Лихие выросли молодцы, что Роман, что Завид. Усердные. Иван Дмитриевич вдруг ясно понял, какая судьба ждет их.
Хотя никому не говорил о том, он продолжал тогда горевать о погибшей жене. Через год после ее смерти избрали новгородцы его, вдовца, посадником. Верой и правдой служил Великому городу. За суетой и многомыслием о делах разных, в походах ратных, в распрях с князьями за благо горожан словно бы и притупилась режущая боль. Все было хорошо, пока девять лет тому не взъярились на него богатые новгородские бояре, не пожелали понять, что после ужасного наводнения простой люд совсем разорен, и в одночасье сместили его с посадничества…