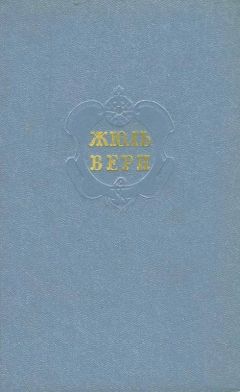ботинки… непонятно, почему тихонько. Непонятно, зачем вообще их снимать, чтобы подняться на чердак.
Сажусь за стол с пишущей машинкой. Жана Габена выкладываю на пол. Он меленько топает по комнате, и от этого мерного топ-топ немного унимается сердце. Достаю из шкатулки тетрадь. На обложке твоей рукой написано: “Сильвия для Элизы для Эжена”. Впиваю каждое слово. Смакую каждый слог, любуюсь запятыми и даже пробелами. Прикоснуться к бумаге – все равно что к одежде твоего призрака. В этой тетради бьется твое сердце. И пусть писала не ты, а она, мне кажется, что ты.
Мало-помалу втягиваюсь и читаю так, как будто это переписка двух героинь романа. Тут рассказано все: как вы пулялись яйцами, про тайные встречи на чердаке, про духи… и про письма, которые она сочиняла для тебя, чтобы ты соблазняла папу, и уж потом ты сама его соблазняла, как Эмиль Розали, потому что “любовь надо возделывать, как огород. И лучшее удобрение – это стихи”. Интересно, а папа знал? Или так никогда и не узнал? Можно его спросить, но вряд ли я когда-нибудь решусь.
Под пером Сильвии ты живая. Это какое-то волшебное безумие. Будто бы ей удалось сохранить и удержать в себе частицу тебя. Так что ты не совсем умерла.
Другие письма еще лежат в конвертах, я не решаюсь их открыть. Ты не успела их переписать, они пришли незадолго до 3 июня 1944 года. Жан Габен сучит коготками по полу. Ладно, я распечатываю письма.
Тот же почерк, очень похожий на твой, но эти письма не относятся к вашей поэтической махинации. Сильвия обращается в них прямо к тебе.
Спрашивает про меня, говорит, как бы хотела на меня взглянуть после войны. Несмотря на войну, в письмах много забавного, и я смеюсь в голос – на чердаке, один, не считая ежика Жана Габена. Между тем почти рассвело. В глазах резь, но спать ничуть не хочется. Надо как-то освоиться с этим свалившимся на меня счастьем. Мне хочется то смеяться, то плакать, то плакать и смеяться разом. Ливень с безоблачного неба.
Остался один конверт с надписью “Мену” мелкими печатными буквами. Почерк тот же, что на нашей картонной коробке с новогодними гирляндами.
Закукарекал чокнутый петух – значит, вот-вот настанет утро. Петух все голосит, а Жан Габен нелепо тычется во все углы.
Открываю конверт. Знакомая бумага для писем. Знакомый почерк – твой.
Вилла “Иветта”,
3 июня 1944
Мену, мой милый!
Мне так жаль, что ты плачешь из-за меня. Так жаль, что я оставила тебя без мамы. Так жаль, что не могу ничем помочь, а только пожалеть. Но я думаю о тебе, моем чудесном мальчике, о твоих глазках, ставших еще зеленее от слез. И невольно улыбаюсь.
У меня еще теплится искорка надежды, что тебе не придется читать это письмо или что ты и Мирей прочтете его очень не скоро, через много лет после войны, когда повзрослеете и поймете, что ваша мама когда-то едва не ушла из жизни. Я так хочу скорей вернуться! Я всегда опекала тебя, не могла на тебя надышаться, а теперь сама едва дышу. Силы, чувствую, покидают меня. Я слабею и очень боюсь за Мирей. И даже за твоего папу, большого и сильного, тоже очень боюсь.
Если я не вернусь, пусть хоть частица моей любви останется с тобой. Эта любовь так велика, что не может совсем исчезнуть, даже когда меня не станет. Погасшие звезды продолжают светить. Вот и я хочу еще посветить для тебя и хоть немного тебя согреть.
Мама
У меня дрожат руки, бумага шуршит еще громче, чем еж. Нет, я не плачу. Со мной все нормально. Вот только сердце колошматит так, что, чего доброго, переломает ребра.
– К стоооолуууу!
Кажется, с тех пор, как наш край освободили, голос у бабушки стал еще пронзительнее.
Спускаюсь вприпрыжку, стараясь по мере сил выглядеть беззаботным воробушком. И не в том дело, что я огорчен, просто и сердце и голова у меня переполнены. Контакты между ними дымятся. Чтобы вернулась ясность, мне необходимо хоть ненадолго перестать думать.
Завтрак как завтрак, как все завтраки до того, как открылась шкатулка. Все в хорошем настроении, радио не выключается, теперь на него нет запрета. Можно хоть со двора его слушать, через открытое окно.
Дождавшись, пока все уйдут из-за стола, сую в карман Жана Габена и бегу туда, где растут деревья. Мне необходимо бежать – долго-долго. Вот я и бегу долго-долго. И с непривычки быстро выдыхаюсь. Так что перехожу на шаг и долго-долго иду. Захожу вглубь светлячкового леса. В такую глубь, что чуть не забываю вернуться к обеду.
Фромюль,
30 апреля 1944
Я много езжу на велосипеде. Загружаю в карман Жана Габена, и мы с ним катаемся.
– Когда двигаешься, легче разобраться со своими чувствами, – сказал Эмиль.
Поэтому я бегаю, хожу, кручу педали, взбираюсь на деревья и даже играю в футбол во взрыхленной воронке от бомбы. Пускаю свой кораблик в лужах и мечтаю когда-нибудь поплавать на его копии в натуральную величину. От одной этой мысли у меня прибывает энергии.
В курятнике для разрядки даю волю фантазии и придумываю всякие смешные приколы. Например, чтобы куры несли шоколадные яйца. И мы бы праздновали Пасху каждый день.
– Пасха – католический праздник! – произносит у меня за спиной тетя Луиза. – Вот видишь, в Библии каждый что-нибудь да найдет на свой вкус.
Когда же я отделаюсь от привычки думать вслух, которой обзавелся, пока сидел один и разговаривал с тобой!
– А яичница из яиц такой курицы была бы похожа на шоколадное желе.
Тетя Луиза, кажется, даже засмеялась. Во всяком случае причмокнула и растянула рот. Как будто лошадь фыркнула. Звук, похожий на ее же, тети-Луизин храп, но потише.
Набожности в ней не убавилось, но с освобождением многое изменилось.
Теперь она проводит в церкви почти столько же времени, сколько я в лесу.
Сегодня утром видел аистов и подумал, что Марлен Дитрих может быть среди них. Было бы здорово, если бы она спустилась с неба поболтать со мной. Я рассказал бы ей, как жил все это время, и поворошил ей перышки, представляя себе волосы Сильвии и вдыхая запах тухлого гороха.
Фромюль,
8 мая 1945
Всё. Точка. Кончилась война. Войне хана. Мы выиграли. Моя жизнь на ферме тоже скоро кончится. Если вернется папа.
Все в доме сияют, а я,