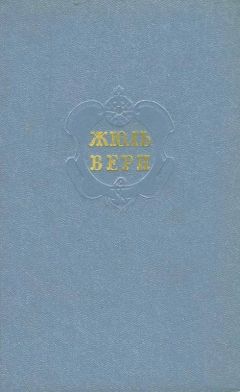дальше, тем меньше становятся все трое, но все еще машут руками. Машина поднимается на плато Лежере, сворачивает, и все исчезает: три фигурки и дом.
Гастон на меня смотрит. Храбрюсь, стараюсь показать, как я счастлив, что еду домой. Я рад, конечно, – рад, что кончилась война и папа рядом. Но что до храбрости и счастья… как-то мне не очень хочется возвращаться на виллу “Иветта” без тебя. Тем более что еще до отъезда папа отвел меня в сторонку и сказал:
– Мы едем домой в Монпелье, и там о тебе будет заботиться одна тетя. Конечно, маму она не заменит, но вот увидишь, она хорошая.
Иду по платформе за руку с папой, а другая рука бултыхается в небе – прощается с Батистом и Гастоном. Небо – вот оно, рукой подать! Бояться больше нечего, но я всего боюсь. Ноги ватные. Иду словно во сне.
Когда-то папа, как по волшебству, исчез на платформе. Я столько раз воображал, как он придет в подвал или на чердак и вызволит меня. Если он снова появится, вот это будет волшебство.
Сегодня все так, да не так. Я страшно рад, что он вернулся, но что-то мне подсказывает: волшебство удалось, но оно кончилось навсегда. Я уже не тот прошлогодний маленький мальчик. Может, не очень подрос, однако что-то во мне изменилось. И я почти смирился с мыслью, что мне придется потерпеть изрядный ненавек, пока лавина вопросов растает.
Пишу все убористее, а в уме все настойчивее звучит: я никогда больше не увижу тебя, ты останешься только в памяти. Поезд медленно отъезжает от вокзала, и я осознаю со всей ясностью: это конец, мамы больше не будет.
Жан Габен буянит в шкатулке, не хватает, чтоб он там задохнулся. Меня одолевает столько противоречивых чувств, что я плохо соображаю. Сую руку в карман и натыкаюсь на ежиные иголки. Мне бы хотелось, чтобы этот поезд привез нас к катеру в натуральную величину. С носом, килем, бортами. Хотелось бы отправиться в плавание с Сильвией, папой и твоим призраком. Я бы стоял у штурвала и все такое. Мы бы уплыли далеко и надолго. Так далеко, что вода превратилась бы в лед. И мы бы начали кататься на коньках. Кататься очень хорошо, умело: Эмиль и бабушка, и даже тетя Луиза – все были бы похожи на каких-то потешных птиц. Скользили бы с закрытыми глазами и ни на что не натыкались.
Папа обнимает меня за плечи:
– Я горжусь тобой, Мену. И мама бы тоже гордилась.
Эпилог
Мы много раз ездили к родственникам в Лотарингию уже после того, как ферма была продана. В воронке от снаряда выросли цветы. Мы ходили осматривать бункеры линии Мажино и подолгу гуляли по лесу с палкой в руках.
Я видел там аистов в гнездах, устроенных на каминных трубах. Много раз наталкивался на ежей, а однажды даже встретил дядю Эмиля. Он угостил меня лакричными леденцами, и мы долго разговаривали перед домом Розали. Он ведь на ней в конце концов женился.
Папа сдержал слово – приезжал на ферму каждое лето, пока была жива бабушка. И рассказывал понемножку о том о сем. Воспоминания и призраки оживали, когда мы куда-нибудь шли или кого-нибудь встречали. То вспомнится гнездо Марлен Дитрих, то кораблик, то немец Ганс, любитель конфет, – он заезжал сюда спустя много лет с женой и ребенком по пути на юг Франции просто выпить стаканчик гренадина. Тогда-то он и спросил Эмиля, не он ли заменил нацистский флаг французским 24 декабря 1944 года. И дядя, наливая ему гренадин, признался: да, это был он.
Первый раз я попросил папу рассказать о своем детстве, когда лежал в больнице и ждал пересадку костного мозга. Мы поменялись местами. Я стал его отцом, он – маленьким Мену.
Мы говорили о футболе, не сознавая, что говорим о поэзии. Говорили о браваде, да и сейчас говорим. Поводом был чемпионат мира 2014 года. Когда же в разговорах на разные темы всплывала предстоящая пересадка, я просил его рассказывать о детстве. Он сидел передо мной, такой, каким, возможно, я стану через тридцать пять лет.
Когда он рассказывал, моя болезнь прекращалась. Значит, я не мог умереть. И несмотря на то, что я лежал в стерильной больничной палате, во мне устанавливалось какое-то равновесие. Примерно такое же, какое обретал он, окруженный родными, когда сидел в подвале с кротами и слушал храп гиппоподамы Луизы.
В то время Мену, рано потерявший сначала мать, потом жену, боялся потерять собственную копию, своего сына. Я смотрел, как он на меня смотрит, вкладывая во взгляд всю свою силу и нежность и стараясь скрыть свою тревогу под медицинской маской, – смотрел и думал: “Ты игрушечный фарфоровый солдат, папа. Хрупкий, но бесстрашный, и я тебя люблю”.
Прошло несколько месяцев, и меня спасла немецкая кровь. Сохраненные в жидком азоте при температуре минус 190 градусов стволовые клетки двух женщин, родивших детей в Дюссельдорфе, одна в 1999-м, другая – в 2005 году.
Генетически я все унаследовал от отца. Я мини-копия Мену из этой книжки. Те же зеленые глаза и обнаженные нервы – всё. Это меня и спасло. Ведь тот факт, что нашлись две совместимые с моим организмом пуповины от женщин, рожавших неподалеку от места рождения моего отца, означает, что эти женщины каким-то образом приходятся мне родней. Франко-немецкие отростки одной ветви. Скачок поверх границ, через все войны, сквозь большую и малую историю.
Моя бабушка Элиза родилась на немецкой территории накануне Первой мировой войны. В жилах у членов нашего семейства вот уже целый век течет кровь с немецкой примесью. Столько же лет пишущей машинке, пережившей три поколения. Хорошенькая оплеуха “местным уроженцам” из песенки Брассенса, высмеивающей всех, кто гордится местом рождения, где бы оно ни находилось.
Двадцать шестого мая 2019 года я встретился с женщинами, благодаря которым заново родился. Они нашли меня благодаря конфиденциальным данным, разглашенным в одной книге [16].
Я проехал пол-Европы на мопеде, чтобы увидеться с ними. Реальность превзошла фантастику и все, что я мог вообразить. Граница между возможным и невозможным растаяла. Встретившись взглядом со своими назваными матерями и своей кровной сестрой-близнецом, я почувствовал, что восстановилось что-то важное. Призрак Сильвии, моей покойной мамы, улыбался у меня за спиной – и так бывало каждый раз, когда со мной случалось что-нибудь хорошее. Так мне казалось. И от этого сжималось сердце. Сердце бешено билось в ритме быстрого свинга сороковых годов.
Я думал об отце и о своей уже