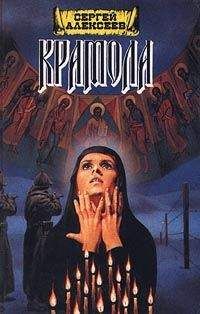Андрей не ждал ответа или какого-то участия в разговоре. Он торопился сказать побольше, ибо чувствовал, как знакомый спазм сжимает горло, вновь немеет язык и теряется дар речи.
— Я будто воскрес, Саша… Мертвым был, помню себя мертвым… И люди кругом — не люди…
— Прости, Андрей! — Александр поймал руки брата. — Я думал плохо!.. Я думал, ты погиб, и о тебе мертвом плохо думал. Прости! — Он помолчал, потом заговорил снова: — Меня мобилизовали, признали годным… В прежнем звании… При штабе у Махина был. Мы с тобой оба у него наслужились!.. А теперь все кончено, амуницию в огонь, в огонь!.. Я увидел и понял гражданскую войну. Это такая же война, так же убивают. Только еще вешают. И стреляют в затылок… А выжить хочется!.. Только героев на гражданской не бывает. Нет героев и быть не может. В том вся разница. Есть только виновные. На всех вина, кто под ружьем был. А есть и особо виновные, которым прощения не будет. Никогда… Героев помнят вечно, а виновных вечно не прощают…
— Значит, и мне не будет прощения, — стуча зубами, проговорил Андрей. Он потянулся к огню, пар повалил от мокрой одежды, но тепла не было. — Зря ты шинель спалил. Лучше бы мне отдал, морозит меня.
— Еще не поздно! — горячо заговорил Александр. — Теперь нужно жить во искупление, понимаешь? Мы такого в своем отечестве натворили!.. Теперь я знаю, как жить дальше. Я все решил…
— Да что в отечестве? Дома нашего нет! — Андрей уже обнимал огонь, наполовину забравшись в каминный зев. — Мы с тобой сестру не уберегли! Сами живы, а она… За что? Почему?.. Зачем ты взял ее с собой? Что теперь скажем родителям? Что скажем?!
— Ты ведь ничего не знаешь! — закричал Александр. — У нас никого нет! Мы двое с тобой остались, только двое!
Андрей сунулся вперед, будто его толкнули в спину, ожег руки. Брат дернул его за ворот, приподнял, поставил на ноги.
— Держись, Андрей! Нет больше наших родителей. Нет их! Мы с Олей хотели сразу сказать тебе, еще тогда, в поезде. И потом в Уфе хотели… Но ты же был болен! И слабый был! — Саша встряхнул брата. — Должны были сказать тебе! Я только начать не мог! Не знал как! Прости, тогда мне духу не хватило. Я боялся сказать. Думал, скажу, а ты не пойдешь к большевикам служить. Откажешься… И тогда бы нас всех…
— Что с ними случилось? — сквозь зубы спросил Андрей. — Ну?! Говори, говори!
— Теперь скажу, Андрей… Я все это время мучился. Но то был святой обман, поверь! Отца только нет, а мать жива! Жива, разве что здесь ее нет… И больше никогда не будет.
— Не тяни душу! Говори! Что?! Кто их?!
— Я и сейчас боюсь сказать тебе… Обещай, что не станешь мстить! Дай слово! Мстить нельзя! Некому мстить! Это стихия! Нельзя же мстить урагану или грозе! Дай слово!
— Даю, — едва вымолвил Андрей и не услышал своего голоса.
Подсвеченный пламенем дым реял под потолком, шевелился, и создавалось ощущение, будто ожили лепные ангелы и, расправив крылья, парят теперь и качаются в смрадном воздухе.
В Уфе па подходах к железнодорожной станции их остановил патруль. Тарас Бутенин в нескольких словах объяснил, что они отстали от своего поезда, блуждали по степи и вот теперь добираются пешком, а надо ехать в Москву. Патрульные слушали плохо, больше изучали документы и советовали обратиться к коменданту станции. Личный поезд Чусофронта наверняка был где-нибудь под Бугульмой, оставалась надежда на мандат, выданный по заданию Реввоенсовета республики, однако с ним можно было рассчитывать лишь на отправку с военным эшелоном, самым тихим ходом. Пока Бутенин разговаривал с патрулем, Андрей сидел на рельсе и смотрел на свои босые ноги, побитые щебнем. Ему казалось, что ступни выпачканы и пропитаны трупным ядом; ощущение брезгливости вызывало тошноту, хотелось пить.
— У вас что, людей не хоронят? — вдруг окликнул он уходящих вдоль насыпи патрульных. — Или некогда?
— Каких людей? — мужики средних лет, одетые в полувоенное, остановились, поправили винтовки на плечах.
— Обыкновенных, — бросил Андрей, — которых убивают.
Неожиданно патрульные вернулись.
— Ну-ка, стой, ребята! — приказал один из них и вскинул винтовку. — Пошли к коменданту. Кто вас знает, что вы за люди-человеки… — Он бесцеремонно выдернул револьвер из кобуры Бутенина, подтолкнул в спину — ступай! И добавил со значением: — Нормальные краскомы босыми по путям не шастают!
Бутенину оставалось только выматериться…
На станции их завели к коменданту, и, пока шло выяснение, пока Бутенин, свирепея, доказывал, что он свой, а потом рассказывал про побег Березина и блуждание по белой от костей степи, Андрей незаметно выскользнул из коридора, в открытую прошел мимо часового и побежал к водокачке. Из заправочной трубы сочилась тонкая, в спичку, струйка воды, но, долетая до земли, она рассыпалась и лишь обдавала лицо влажной пылью. Андрей ловил ее руками, пытался умыться и только размазывал грязь. Теперь чудилось, что и на лице яд и что он въедается в кожу; с ощущением гадливости Андрей метался под трубой и тянулся к струе.
— Угорел, что ли? — подозрительно глядя, спросила женщина с тяжелым ключом на плече.
— Дайте воды, — попросил Андрей, держа перед собой растопыренные ладони. — Умыться…
— Вон чего захотел! — с неопределенным чувством бросила женщина. — Здесь не баня, здесь паровозы заправляют.
— Пожалуйста, дайте воды! — взмолился Андрей. — На мне трупный яд… Вот, вот, смотрите!
И потянулся к ней грязными руками. Женщина отшатнулась, мелко перекрестилась.
— Не в себе, что ли, человек…
— Дайте! Дайте умыться! — взывал Андрей, испытывая тошноту. — Я по костям… по костям ходил…
Женщина спряталась за водонапорную башню, крикнула оттуда с испугом в голосе:
— Иди прочь! Иди! Счас вот ключом огрею!
— Да пускай моется! — неожиданно отозвался девичий голос из высокого окошка в башне. — Держись, открываю!
Мощная струя ударила по голове, полоснула по спине. Андрей разделся до пояса и стал мыться, едва выдерживая напор воды. Он тер руками, скоблил ногтями лицо и одновременно хватал воду широко открытым ртом. А девушка в окне смеялась заразительно и звонко:
— Что ж ты, паренечек, в штанах-то моешься?
Андрей с трудом стянул брюки, отшвырнул в сторону. Он не ощущал холода, разве что немела макушка, и руки теряли чувствительность. Он тер их песком, стоя под струей, смывал и снова тер. Потом вспомнил о ногах и, усевшись в прибывающую лужу между рельсами, начал мыть и драть песком ступни. Молодая заправщица, по пояс высунувшись из окна, дразнила сквозь смех:
— Помоешься, дак приходи!.. Ой, приходи, милай!
И та, с ключом, выглядывала из-за угла башни и кривовато, боязливо улыбалась.
— Должно, испуганный, человек-то… Полечить бы свести…
Андрей стоял под струей, и вода, разбиваясь о темя, превращалась в сверкающий на солнце купол. На какой-то миг он отвлекся, перетерпливая боль в гудящем затылке, и не услышал окрика. Струя вдруг ослабла, погас купол, и залило глаза. Андрей утер лицо и увидел Бутенина. Тот стоял, широко расставив ноги, уже при револьвере и в начищенных сапогах.
— Ой уж, ой, грозный-то какой, — подтрунивала над ним заправщица.
Бутенин поднял одежду Андрея, помог отжать. От станции к водокачке полз паровоз, попыхивая и сгоняя людей с пути. Бутенин торопил. Андрей натянул мокрую одежду, привычно заложил руки за спину.
— Вечерком-то приходите! — веселилась опять заправщица. — Полечим! Ох, полечим!
— В другой раз! — отозвался Бутенин. — На обратном пути!
Вслед полетел смех, волнующий и звонкий, как струя воды на солнце.
Военный эшелон обещали только под утро, а в помещении вокзала было не протолкнуться. Сорванный с обжитых мест гражданской войной русский люд мело по земле, словно поземку в буранную ночь: обнищавшие российские крестьяне подавались в Сибирь на золотые прииски, из Сибири в Россию возвращались те, кого унесло лихолетье за Урал. Голодные ехали менять добро на хлеб, хлеб везли, чтоб обменять на добро и прикрыть наготу. Великая нужда гнала людей с мешками по России; они штурмовали поезда, набивались в вагоны, давили друг друга, хрипли от черной ругани, мерли от удушья и голода, говорили о политике, о судьбе, о стране, о вождях и катали на языках круглое, как шар, слово — свобода. А мимо «зеленой улицей» проносились полупустые личные поезда с охраной, с пулеметами на тормозных площадках и звездами на паровозном лбу. И эти скорые эшелоны, просекающие пространство России во все стороны света, были всего лишь частью великого хаотического движения народа, с той лишь разницей, что в мягких вагонах суровые люди в полувоенном решали судьбу отечества и того самого слова — свобода.
Комендант станции разрешил остаться на ночь в узком коридоре комендатуры, возле обитой железом двери, но места хватало лишь сесть: по коридору то и дело ходили люди. Едва пришла ночь и вокзал стих, угомонился до утра, как сутолока в комендатуре оживилась. То и дело заводили каких-то людей, допрашивали; скрипели полы, стулья, за дверью кто-то тихо пел не по-русски; стук сапог, шорох лаптей и сыромятных чувяков смешивался в единый нескончаемый звук, напоминая возмущенный говор толпы.