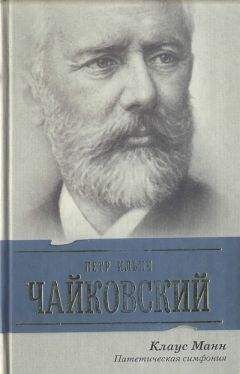Еще одна поклонница изо всех сил запустила в него букетом роз, попала ему прямо в лицо и поранила глаз. Эта агрессивная дама дурным голосом вопила: «Да здравствует маэстро!», но при этом прилагала максимум усилий к его уничтожению. Петр Ильич стоял посреди холла с оплывшим и слезящимся глазом, окруженный газетчиками, посторонними дамами и фотографами. Неожиданно ему вспомнился Иоганнес Брамс со своей поклонницей-амазонкой мисс Смит. «Какими пародийными фигурами стали в наше время „маэстро“! — думал он, вытирая слезящийся глаз носовым платком. — Слава — это издевательство над всем тем, чем она заработана и выстрадана».
В обратный путь Чайковский отправился на немецком пароходе «Фюрст Бисмарк», который впервые выполнял рейс Нью-Йорк — Гамбург. В дороге Петр Ильич пытался работать, он делал наброски к новой Шестой симфонии. Но он чувствовал себя опустошенным, и складывающиеся в его переутомленной голове ритмы и мелодии совсем не соответствовали его ощущениям. Нет, этим он не мог удовлетвориться, у него была совсем другая цель и миссия: предстояла искренняя исповедь, песнь безграничной скорби, разоблачение самого сокровенного. Нужно было дойти до этой крайней черты, но она все еще не была достигнута, все еще находилась вне пределов досягаемости…
Места и лица сменяют друг друга, они проплывают мимо и ускользают. Петр Ильич смотрит им вслед, провожает их задумчивым взглядом. Он оставляет позади один рубеж за другим. В жизни его не будет покоя, таков безжалостный закон. Его беспокойная жизнь стремительно приближается к туманной цели, к загадочной развязке. Туманная цель уже манит его своим блеском, отбрасывает на него свою тень.
Единственная отдушина в монотонной спешке и меланхоличном беспокойстве — это Владимир. Независимо от того, удается ли ему днем увидеться со своим любимцем, умницей и самым дорогим юным родственником, вечером, перед сном, Петр Ильич непременно должен увидеть его любимое лицо, его тонкий силуэт. Звук нежного и родного голоса убаюкивает Петра Ильича, дарит ему долгожданный сон. Сон для него не просто ночной отдых: это желанное состояние забвения и полного покоя, символ смерти. Ежедневная обязанность юного пажа, высокорослого, нескладно-грациозного племянника — убаюкивать стареющего дядюшку, провожать его в мир теней. Иногда случается, что чужое и в то же время такое знакомое лицо юноши постепенно преображается, принимает очертания другого лица, самого родного и любимого. Образ сидящего у постели обладателя усыпляющего голоса сливается с другим, женским образом, с образом матери. Этому образу свойственна грация пажа и нежная строгость матушки. Владимир и мать сливаются воедино. Красота матери и обаяние племянника сплетаются в некоем эфемерном, не женском и не мужском образе. Вот он призывно машет рукой, зовет, манит за собой. Нужно всегда следовать за матушкой, это знают все послушные дети. Противиться ее зову было бы большим грехом. День без тебя — это грех. Любовь к Владимиру и к матери таинственным образом объединяется в нежном и строгом призыве.
Любезный племянник, разумеется, даже не подозревает о чрезвычайно странных играх воображения своего покровителя, любимого дядюшки и лучшего друга. Откуда же ему знать, что по ночам он в образе ангела смерти посещает покои стареющего родственника? Скорее всего, он сильно испугался бы, даже ужаснулся, если бы узнал об этом. Но мудрый Петр Ильич хранит свою тайну. Он самым тщательным образом различает реального Боба, общение с которым оказывает на него живительное действие, от таинственного двуликого эфемерного образа, являющегося ему перед сном. По отношению к «ночному» Владимиру, пажу смерти, он испытывает благоговение и чрезмерную, восторженную любовь, смешанную со страхом, а к живому Владимиру из плоти и крови — самую естественную и нежную благодарность.
Благодарность его бесконечна, ведь Боб обогащает унылое существование стареющего композитора вдохновением и жизнерадостностью молодости, своими страстными увлечениями, любовью к увеселениям, любознательностью, пылким неприятием несправедливости, юмором, прекрасным и юным мироощущением. Он появляется в Майданово в сопровождении кого-нибудь из друзей: графа Лютке или молодого Направника. Голова его битком набита пылкими идеями, а чемодан — новыми книгами. И снова будут игры и долгие прогулки. Алексею снова придется подавать любимые блюда молодого хозяина. Владимиру в Майданове нравится даже больше, чем во Фроловском. Чайковский, не способный нигде подолгу находиться, продал имение во Фроловском, где его расстраивала жестокая вырубка леса, и временно поселился в своем доме в Майданове, где от леса давно осталось одно название.
Могли он, педантично хранящий воспоминания, чтобы потом впадать от них в ужас и оцепенение, быть счастлив там, где каждый камень и куст напоминали о прошедшей, ускользнувшей жизни? Здесь он был счастлив только тогда, когда Боб с друзьями приезжал погостить. После их отъезда наступали уныние и скука. Когда одиночество становилось невыносимым, он встречался с молодежью в Москве или в Санкт-Петербурге. Тогда наступали веселые дни, которые обходились ему недешево; в лучших театрах и дорогих ресторанах обеих столиц можно было наблюдать необычную компанию: седобородый господин, сопровождаемый шумной толпой студентов, музыкантов и курсантов. Иногда к ним присоединялся Модест. Петр Ильич очень охотно позволял молодежи развлекаться за свой счет. Издатель Юргенсон нередко выражал свое недовольство по поводу финансовых запросов автора, которые в подобных случаях устрашающим образом возрастали. Все грозило закончиться финансовым крахом, если балет и одноактная опера, переименованная из «Дочери царя Рене» в «Иоланту», не будут закончены в срок. Следовательно, Петру Ильичу пришлось вернуться в Майданово, чтобы продолжить работу над этими произведениями.
Его отвращение к балету и опере оставалось таким сильным, что работа над ними сопровождалась мучениями, достойными куда более серьезной и высокой цели. Если ему еще раз придется напрягать все свои силы — а работа требовала напряжения сил, — хотелось бы, чтобы результатом стало то самое единственное произведение, полностью завладевшее его воображением и мыслями: заключительная, обобщающая мелодия. Время от времени он доставал на свет свои симфонические наброски, начатые в тесной раскачивающейся каюте парохода, и каждый раз разочарованно их откладывал. Нет, это была не Шестая симфония. Она еще не созрела, еще не сложилась. Он ждал ее как чуда. Он снова брался за работу по заказу, за легкое дело, дающееся ему с таким трудом.
Разумеется, ему по-прежнему удавались прелестные мотивы, как он сам вынужден был признать. Разве «Вальс цветов» из сюиты «Щелкунчик» не очаровательная находка, не чудный музыкальный подарок?
Петр Ильич сыграл «Вальс цветов» толстяку Ларошу, навещавшему его в Майданове.
— Это просто восхитительно, — сказал Ларош, который в силу своей флегматичности обычно не был способен на бурную похвалу. — Надо же, старина Петр, какие обворожительные вещи возникают в твоей седой голове!
Старина Петр тихо рассмеялся.
— Да, удивительно, — сказал он наконец. — И мне не чужда приятная музыка. Такая вот мелодия ласкает слух, правда? Знаю, знаю, она прелестно звучит и легко запоминается, ее будут напевать по дороге из театра домой. Именно поэтому некоторые строгие господа опять презрительно поморщатся, когда ее услышат, — и в России, и в Германии.
— Тебе должны быть безразличны строгие господа и в России, и тем более в Германии, — ответил толстяк Ларош. — Ты один ценнее всего общества, вместе взятого, потому что ты еще способен творить. Поверь мне, я в самом начале не зря делал на тебя ставку, у меня уже тогда было отменное чутье.
Ларош лишь в редких случаях произносил столь длинную речь.
— Цезарь Кюи будет пожимать плечами, и маэстро Брамс будет пожимать плечами, — сдержанно заметил Чайковский. — Оба скажут, что это парижские штучки и легкомысленная чушь. Что ж, может быть, я в душе немного парижанин. Неужели это грех? Разве это грех — время от времени доставлять людям приятное вот таким «Вальсом цветов», который они по дороге домой могут насвистывать себе под нос?
— Это совсем не грех, а даже напротив — большая заслуга, — с достоинством произнес толстяк Ларош.
— Не зря же сам Иоганн Штраус, король вальса, первым обратил на меня внимание, — продолжал Петр Ильич, и лицо его радостно преобразилось при воспоминании о венском короле вальса. — Это уже само по себе кое-что значит, — с улыбкой добавил он после короткого размышления.
Несколько минут старые друзья сидели молча.
— Но, разумеется, мне сейчас не до шуточек, — сказал Петр Ильич, как бы подводя итог своим мыслям. — Поверь мне, у меня совсем другое на душе.