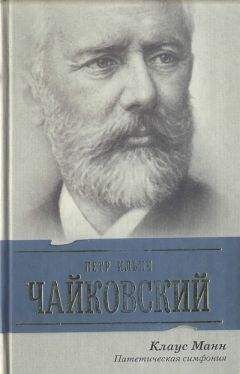Ларош кивнул. Петр Ильич никогда не рассказывал ему о своих планах, о задуманной им большой и всеобъемлющей симфонии, но они так давно были знакомы, что научились угадывать друг у друга мысли и намерения.
— Да-да, — ответил Ларош после очередной паузы, печально качая тяжелой головой, — если бы всегда можно было заниматься тем, что у нас на душе… Я вот, например, в жизни не довел до конца абсолютно ничего из того, что планировал в молодости, в консерватории, когда мы познакомились… Тебе еще время от времени что-то удавалось, а мне вот совсем ничего. Ну что такое пара статей о музыке? И говорить не о чем, совсем не о чем. Вот и сидим мы тут, как два старых осла, и пьем водку.
Толстяк замолчал, задумчиво склонив набок озабоченное круглое лицо. Глаза его, заплывшие жиром и превратившиеся в щелки, устало моргали в сигаретном дыму.
— И что это я сегодня так много болтаю, — добавил он и окончательно ушел в себя.
Вот таким был Ларош. Петр Ильич неспроста так редко изъявлял желание встречаться со своим верным и добрым другом. От него веяло парализующей безнадежностью. День, начавшийся в его обществе, можно было считать наполовину потерянным, поскольку уже за завтраком меланхоличный толстяк заявлял:
— И зачем мы вообще вставали? Мы с таким же успехом могли остаться в постели. Это было бы даже куда более благоразумно.
Потом он ипохондрически жаловался на боли в какой-нибудь части тела и весь день просиживал в кресле в полной апатии.
Петру Ильичу действовал на нервы этот спектакль. Ему тоскливо было смотреть на то, как опускается высокоодаренный человек. Взгляды и привычки друга юности казались ему еще более фатальными из-за того, что никоим образом не были ему непонятны и чужды. Толстяк Ларош предавался настроениям, с которыми сам Петр Ильич успешно вел ежедневную борьбу.
Кроме того, ленивый и мрачный колосс приносил несчастье. Именно тогда, темной осенью, во время его пребывания в Майданове, и случилось одно сильно поразившее Петра Ильича ужасное событие.
Свои любимые часы, самую дорогую и самую красивую свою вещь, Петр Ильич не всегда носил в кармане. Иногда, выходя из дома, он оставлял их на ночном столике, чтобы потом, по возвращении, с удвоенной радостью ими любоваться. Ларош редко сопровождал его во время этих долгих послеобеденных прогулок, он был слишком ленив для такого рода времяпрепровождения. Но в этот день Петр Ильич уговорил его идти вместе. Молчаливая прогулка затянулась, и уже стало темнеть, когда они вернулись домой. Петр Ильич зашел в спальню, чтобы сменить обувь. Взгляд его по привычке упал на ночной столик, где он оставил свою любимую вещь. Он тихо вскрикнул, стал дрожащими пальцами искать часы между коробочками с содой, бутылочками с валерианкой, фотографиями и французскими книгами — часы исчезли.
С ужасом Петр Ильич понял, что исчезли они окончательно, что они навсегда потеряны. «Я их больше никогда не увижу», — шептал он. Он вызвал к себе Алексея, кухарку и Лароша, чтобы обсудить с ними случившееся. Были высказаны всевозможные предположения, и о пропаже было заявлено в полицию.
Поскольку Алексей и кухарка были вне подозрений, объяснение случившемуся было только одно: кто-то посторонний проник в дом со стороны дороги. И действительно, Алексей забыл закрыть окно в спальне. Ловкому вору ничего не стоило вскарабкаться вверх по стене. Ни на стене, ни на подоконнике, ни в комнате следов, разумеется, не обнаружили. Все, кроме самого ценного, было на месте, как будто вор именно за часами и приходил, как будто точно знал, где они лежат, и одним умелым движением выполнил свою рискованную и подлую миссию.
— Я больше никогда свои часы не увижу, — говорил Петр Ильич господам из полиции со слезами на глазах, с трудом сохраняя самообладание.
— Будьте уверены, ваша милость, мы сделаем все возможное для возвращения вашей собственности, — уверил его полицейский чиновник.
— Спасибо, — ответил Петр Ильич, но после ухода комиссара он, горько рыдая, сообщил толстяку Ларошу: — Часы пропали, я это точно знаю. Никогда больше я не смогу любоваться Аполлоном и Орлеанской девой. Это печально, ой, как это печально!
— Мы тебе новые подарим, — утешал его толстяк Ларош, как ребенка. — Я соберу денег у друзей, и мы купим тебе новые, еще красивее старых!
— Но они же были моим талисманом! — сетовал безутешный Петр Ильич. — Это очень плохая примета, что они пропали. Теперь и мне скоро конец.
— Как можно быть таким суеверным! — произнес Ларош неуверенным голосом: сам он половину жизни проводил в гаданиях на картах и вечно пребывал в страхе перед всякого рода дурными знаками и приметами. — Ты еще лет тридцать проживешь без своих часов.
— Знаешь, что я думаю и чего боюсь? — Петр Ильич заговорщически притянул к себе друга. — Этот вор, это был посланник госпожи фон Мекк! Задушевная подруга хотела отнять у меня самую дорогую память о себе. Она же знает, что эти часы — мой талисман. Она послала ко мне вора как убийцу!
— Ну, это уже выдумки, — сдавленно произнес Ларош, лицо которого было искажено страхом. — Полиция найдет настоящего вора.
— Ах, полиция… — презрительно отмахнулся Петр Ильич.
На следующий день полицейские чиновники привели в дом Чайковского оборванца, пойманного на дороге и за отсутствием других подозреваемых арестованного за кражу часов. Он был в наручниках, с окровавленной губой и подбитым глазом.
— Он не признается, — сообщил полицейский, подталкивая его в комнату. — Но у нас есть все основания его подозревать.
При виде оборванного и, как ему показалось, ополоумевшего арестованного Петр Ильич почувствовал подступающую тошноту и удушающую жалость.
— Отпустите его немедленно! — потребовал он у чиновника и жестом подозвал к себе оборванца.
— Ты украл часы? — тихо спросил он, глядя на несчастного своими добрыми синими глазами.
Тут оборванец упал перед ним на колени. Стоя на коленях, он, как в экстазе, стал раскачиваться из стороны в сторону, заламывая руки в наручниках.
— Прости меня, барин! — кричал он. Рана на губе его открылась, и кровь стекала по подбородку. — Прости меня, добрый барин! Да, я виноват, позор на мою грешную голову, Бог меня оставил, я проклят и совершил страшный грех! — продолжал он, не переставая раскачиваться. Его крики сливались со звоном цепей, которыми были скованы его руки.
Полицейские сделали самодовольные лица, а Петр Ильич тихо спросил:
— А где же часы?
В ответ оборванец вдруг замер, удивленно и осуждающе глядя на Чайковского.
— Но их у меня больше нет, — сказал он с идиотской ухмылкой.
— Так, — крикнул один из чиновников, — это мы еще выясним, где он часы спрятал! — И он потянул арестованного вверх. — Вставай! — прикрикнул он. — Прекрати ломать комедию!
Второй чиновник поклонился Петру Ильичу:
— Завтра мы вернем вашей милости украденный предмет.
В это время его напарник подталкивал к двери арестованного, который через плечо умоляюще косил на Чайковского подбитым глазом.
— Не бейте его! — кричал Петр Ильич вслед полицейским. — Я настоятельно требую, чтобы его не били!
Спустя двадцать четыре часа чиновники снова явились, но на этот раз без арестованного.
— От него ничего не добиться, — докладывали они с усталым видом. — В данном случае мы имеем дело либо с душевнобольным, либо с отпетым негодяем. Когда мы в отделении стали его допрашивать, он притворился, как будто вообще не знает, о чем идет речь. Он все отрицал и утверждал, что ни о каких часах слыхом не слыхивал. При этом он повторял, что грешен перед Богом и попадет в ад. От него действительно ничего не добиться…
Петр Ильич попросил их отпустить несчастного.
— Я же знал, что часы мои пропали навсегда, — печально констатировал он. — Этот несчастный их, скорее всего, действительно не крал.
— Ну и что же нам с ним делать? — недоумевали усталые полицейские. Избиение подозреваемого и вид его религиозных приступов сильно утомили и смягчили их.
— Вот, дайте ему немного денег, — ответил Чайковский, растроганный болезненным воспоминанием о несчастном с кровоточащей губой и свалявшимися волосами над низким лбом. — Пусть купит себе одежду и еду. Может, работу себе найдет.
Полицейские взяли деньги и удалились. Они размышляли, не отдать ли на самом деле часть этих денег сумасшедшему оборванцу, чтобы он убрался подальше из их округа.
Талисман так и не нашелся, Аполлон и Орлеанская дева навсегда исчезли из жизни Чайковского.
— Мне не нужно было возвращаться в Майданово, — говорил Петр Ильич толстяку Ларошу. — Теперь мне здесь все ненавистно. Этот дом проклят. Пусть Алексей его продаст или сдаст в аренду, пока я буду в разъездах. А потом я, может быть, перееду в Клин…