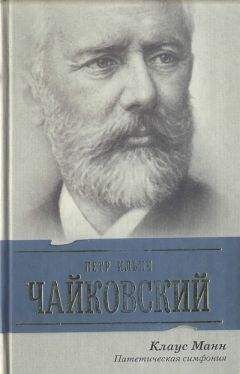— А почему именно в Клин? — поинтересовался толстяк Ларош. — Это же такая дыра!
— Мне привычны те места, — ответил Чайковский. — Конечно, Клин — это дыра, но он так удобно расположен между Москвой и Петербургом. Владимир может меня навещать, и Алексею там нравится. Дом останется ему, когда я умру.
Он в последние дни много плакал, мало спал и совсем не работал. Лицо его осунулось и постарело, губы и руки его то и дело дрожали.
— А что ты там все пишешь с тех пор, как приводили этого окровавленного вора? — полюбопытствовал Ларош.
— Я составил завещание, — ответил Петр Ильич.
Друг юности задумчиво посмотрел на него заплывшими жиром глазами.
— Вот как, — произнес он наконец. — И кто же счастливый единственный наследник?
— Не ты, — ответил Чайковский.
Был конец октября, в столицах начинался театральный сезон.
— Ну что же, и нам этого не избежать! — решил Петр Ильич. — Каждой осенью и зимой — одна и та же комедия: стараешься умножить свою славу, мучаешься, унижаешься, потом приходит весна, и оказывается, что не добился абсолютно ничего, но на год постарел, устал и измотался. Но мы же не хуже других!
Он дирижировал в Москве и Санкт-Петербурге. Публика аплодировала, дамы бросали цветы, а критики писали уничтожающие отзывы, которые всегда отрезвляли, как ушат холодной воды, и не заставили себя ждать даже после премьеры «Пиковой дамы» в Москве. Зато казавшуюся Петру Ильичу особенно неудачной симфоническую фантазию «Воевода» газеты нахваливали в один голос.
— На дурной вкус этих людей можно положиться, — с горечью говорил Чайковский. — «Воевода» — это совершеннейшая дрянь. — После премьеры он в отчаянии разорвал партитуру пополам, что потребовало немалых физических усилий, но оказалось пустым жестом, поскольку имелось еще несколько копий.
Мы же не хуже других! Были концерты в Киеве, и были концерты в Варшаве. Были бесконечные обеды и хвалебные речи. А потом — приступы отчаяния в тоскливых гостиничных номерах и, наконец, письменный стол, чистый лист бумаги и письмо Бобу. «Ах, милый ты мой! Как и в прошлом году, как и всегда, я считаю дни, часы и минуты до завершения поездки. К тебе, радость моя, обращены все мои мысли. Каждый приступ уныния или нестерпимой тоски по дому, каждая мрачная мысль отступает от сознания того, что ты есть и что в недалеком будущем я смогу тебя увидеть. Поверь мне, я не преувеличиваю! День ото дня я нахожу утешение в простой и прекрасной истине: да, жизнь — штука подлая и тяжелая, но это совсем не страшно, потому что где-то есть Боб. Где-то далеко, в Петербурге, он сидит за учебниками, занимается. А через месяц я его увижу».
Откуда отправлено это письмо? На нем штамп города Праги и день отправки: 29 декабря 1891 года. Оно могло бы с тем же успехом быть отправлено из Гамбурга, поскольку там нашего тоскующего путешественника преследовали те же мысли, что и в Варшаве, Киеве или любом другом городе.
В Гамбурге Петру Ильичу предстояло дирижировать «Онегиным», но его смущал немецкий перевод текста, и он поручил разучивание оперы молодому капельмейстеру оперного театра.
— Я вам полностью доверяю, — говорил Чайковский. — У вас все получится намного лучше, чем у меня. Я чувствую, что у вас получится лучше.
Молодой капельмейстер молча поклонился. Сияющие за толстыми стеклами очков глаза его с жадным вниманием вглядывались в лицо знаменитого гостя. Под этим взглядом Петру Ильичу стало не по себе: в нем чувствовалась строгая беспощадная требовательность. В этом до невежливости немногословном молодом человеке с четким профилем и уже изборожденным следами глубоких раздумий лбом было нечто угнетающее, даже устрашающее. Вечерами в артистическом кафе он бывал в хорошем расположении духа и даже снисходительно весел, но днем, во время репетиций, ни одна улыбка не проникала сквозь натянутую завесу его пылкой серьезности. Этот на удивление молодой капельмейстер, которого звали Густав Малер, взял на себя музыкальное руководство «Евгением Онегиным». Несмотря на фантастическое усердие, с которым он отрабатывал каждую деталь, лирические сцены спектакля имели в Гамбурге лишь сдержанный успех. После премьеры Петр Ильич поблагодарил молчаливого молодого капельмейстера господина Густава Малера на ломаном, но очень мягком и певучем немецком за все его усилия, приложенные к подготовке спектакля «Евгений Онегин». Молодой капельмейстер и пожилой композитор пожали друг другу руки в присутствии управляющего театром Поллини, напоминавшего лихого директора цирка. После этого пожилой композитор уехал в Париж.
Он намеревался в гостинице «Ришепанс» дожидаться сообщения о дате гастролей в Голландии. Однако через несколько дней он почувствовал, что нарастающее беспокойство и та самая томящая тоска, которую он называл «тоской по дому», становятся невыносимыми. Кроме того, его сильно удручали разногласия с господином Колонном, который обещал поставить «Пиковую даму» на сцене Гранд-опера. Несмотря на требования Чайковского, спектакль так и не состоялся. Тут Петр Ильич решил, что далее оставаться в Париже просто невыносимо. Он с горечью заявил, что любовь французов к России была исчерпана восторженным приемом, оказанным клоуну Дурову и его двумстам тридцати дрессированным крысам, выступавшим в «Фоли Бержер». Он отменил концерты в Амстердаме и Гааге и решил все-таки еще раз вернуться в Майданово, поскольку в Клину подходящего дома так и не нашли. Ему захотелось работать. Его неожиданно охватила непреодолимая потребность творить, не важно что. «Щелкунчик» и «Иоланта» ждали своей инструментовки.
Неужели не настал еще час самого важного последнего произведения, обобщения и завершения, жалобы и исповеди, большого откровения, Шестой симфонии? Время торопит, и многочисленные предзнаменования свидетельствуют о том, что осталось его не так уж много. Надежда, задушевная подруга, которую он считал истинной своей супругой, отстранилась от него; любимые часы, талисман, самая красивая вещь, утеряны навсегда. Но время еще не истекло.
1892 год, начавшийся приступами меланхолии в Варшаве, Гамбурге и Париже, он проводит отчасти в одиночестве, отчасти в обществе безразличных ему людей или же вместе с любимым племянником, близким и чужим, предметом всех тех чувств, которые прежде так бездарно растрачивались. Он проводит его отчасти в поездках, отчасти в Москве и Петербурге или в новом доме в Клину, на самой окраине города, где дорога ведет через поля, — большой, просторный дом, красиво обставленный верным Алексеем. Он проводит его в работе над собранием важнейших своих произведений, причем работает он с педантичной тщательностью. В час откровения, в день «избавления» письменный стол должен быть в образцовом порядке, все вещи должны быть на своих местах, ничто не должно быть предоставлено случаю. Петр Ильич, человек нестарый, чувствует и ведет себя как глубокий старик. Он с головой окунается в просмотр корректировок, окончательную аранжировку опер, симфоний и оркестровых сюит, как будто готовится к важной поездке. Он стремится все делать сам. Надежные помощники Клиндворт и Зилоти работают, по его мнению, недостаточно аккуратно. Ни одна, даже самая крошечная ошибка не сходит с рук. Весь просмотренный материал, сколько бы его ни было, должен быть в безукоризненном виде представлен на рассмотрение высшей инстанции, на милость строгого судьи — этого требуют от Петра Ильича остатки его меланхолического честолюбия.
Между тем жизнь продолжается, и отдельные события даже приобретают определенную значимость. Премьера новой сюиты «Щелкунчик» в Концертном зале прошла успешно, пять из шести частей сюиты пришлось повторять на бис. Это было в марте 1892 года. Балет «Щелкунчик» будет включен в репертуар только зимой вместе с оперой «Иоланта». После генеральной репетиции его величество государь приглашает композитора к себе в ложу и гнусавит несколько похвальных фраз по-французски. Все эти события, включая еще пару концертов и оперных премьер, вереницей проплывают перед глазами Петра Ильича, и он как бы провожает их своим мягким и задумчивым взором.
Будучи готовым к приближающемуся часу откровения и «избавления», живя предвкушением этого часа, он все-таки беспокоится о своем здоровье, жалуется на больное сердце и рези в желудке, принимает соду и валерианку крупными дозами и едет на курорт в Виши. В этой поездке его сопровождает Боб. Ему нравится показывать Бобу заграницу. В Берлине стареющий дядюшка ведет молодого племянника на оперу «Лоэнгрин», в Париже — в Лувр и кафе «Шантан». Молодой Боб с энтузиазмом принимает участие в предложенной ему программе. К сожалению, он не может удержаться и посылает из Берлина, Парижа и Виши открытки некой даме в Петербург. Интересно, это все та же барышня из хорошей семьи, из-за которой его дразнили друзья? Петр Ильич не решается спросить. Он игнорирует фотографию, которую Владимир держит на ночном столике. Он пытается забыть о существовании предмета воздыханий племянника в городе на Неве, но несколько дней подряд избегает даже случайных прикосновений руки своего любимца. Он вспоминает свою первую заграничную поездку: пожилого инженера и его домогательства, — и эти воспоминания причиняют ему боль.