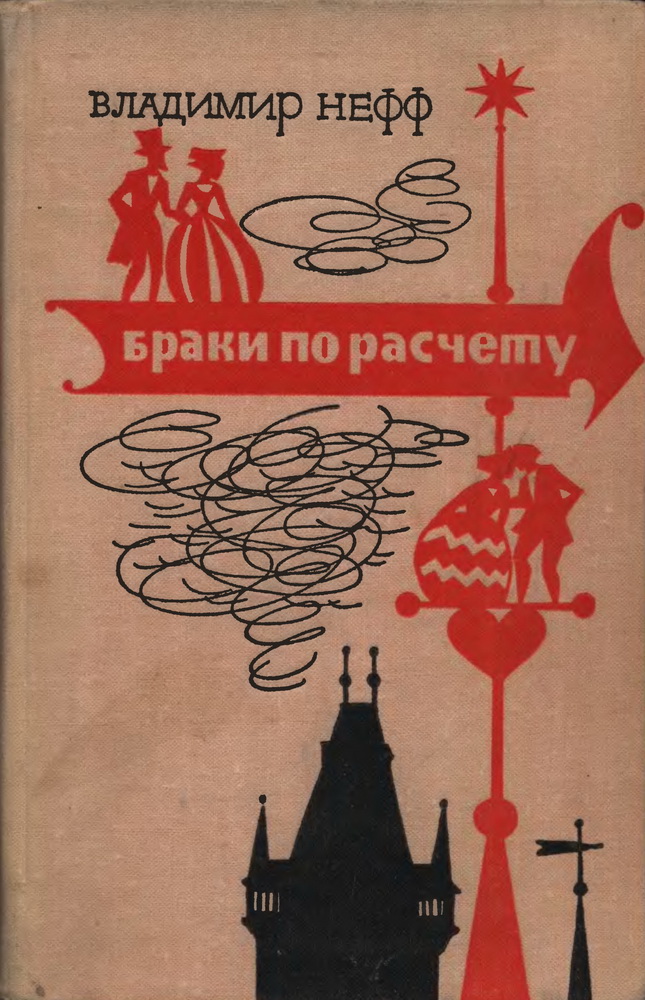не хватило у меня сил расторгнуть помолвку? Быть может, мне помешала только мысль о том, что если бы я даже так и поступила, то кто-нибудь другой, но менее красивый и приятный, чем Борн, мог бы польститься на мое состояние. Какое проклятие деньги, как жестока жизнь, какое счастье быть бедной, без гроша!
О, почему молчишь Ты, мой милый друг дневник, почему чисты Твои дальнейшие страницы, почему не дано им поведать мне, что ждет меня впереди, каким получится мой брак с Яном? Ах, если б знать!..»
Г л а в а в т о р а я
ПОПЫТКА ОТКРЫТЬ САЛОН
Господа Моритц Лагус и Сыновья не уставали хвалить Борна за быстроту, с какой он не только заказывал новые и новые партии товара, но и платил по счетам; стало быть, дело его пошло прекрасно. Действительно, пражане с прежним рвением покупали в этом славянском магазине, и хотя неслыханный успех первого дня, когда за несколько часов расхватали все, что было на складе, больше не повторялся — Борн и через полгода мог сказать, что он победил, что он в самом деле создал нечто, в чем Прага нуждалась и чего она давно ждала.
Оттого, что работа в магазине пошла спокойно, плавно, словно покатилась по гладким, надежным рельсам, самому Борну уже не было нужды бегать по лесенкам и помогать нерешительным заказчицам вдохновенными блестками своей находчивости, и он мог беспрепятственно отдаться общественной и патриотической деятельности. Член певческого кружка «Глагол» и «Общества по постройке чешского Национального театра», о чем мы узнали из дневника барышни Лизы, Борн в скором времени вступил в только что основанную спортивную организацию «Сокол», затем в отряд городских стрелков; еще он сделался членом комитета Экономического объединения и вступил в Союз помощи черногорцам. А то, о чем Борн в свое время писал из Вены брату в Рыхлебов — «где только какая встреча или славянский бал, там обязательно и мы», — это оставалось верным и для Праги, только в значительно большей степени.
Невзирая на нежелание, мигрени, усталость и плаксивые протесты молодой жены, Борн возил ее на все мыслимые приемы, на все чешские балы на Жофинском острове. Он состоял в нескольких комитетах по устройству балов и нередко, во фраке, с кокардой на груди и лентой через плечо, ездил в фиакре приглашать на бал чешские семейства, где были дочери на выданье, — полный список таких семейств он раздобыл у всеведущего Банханса. Он нашел переводчика и издателя для книги о хорошем тоне. Когда же в конце шестьдесят второго года придумали новый чешский танец «беседа», очень красивый и сложный, Борн стал страстным его пропагатором и сам научился мастерски танцевать его. Но довольным он не был.
В Вене нас, чехов, было меньшинство, — писал он брату Франтишеку, — но чувствовали мы себя там гораздо более дома, между своими, чем здесь. Там мы стояли дружно, плечом к плечу, и ревностно следили за тем, как бы не изменить своему патриотическому долгу и не растерять своих национальных черт, в то время как здесь, в Праге, чехи все еще обезьянничают с Вены и частенько разговаривают меж собой на таком языке, что волосы дыбом встают. А мне хочется, и я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы Прага действительно была достойна своей роли как столицы Королевства Чешского, но, как ни бейся, она все не может преодолеть свой провинциализм, так что даже на самых пышных балах мне кажется частенько, что я пришел на деревенское гулянье.
В конце того же письма Борн добавлял:
Да, посылаю Тебе мужественную речь нашего прославленного историографа Палацкого, которую он произнес в сейме несколько дней назад, в конце января. Все, что в ней сказано, впиши себе хорошенько в сердце, перечти два и три раза, особенно это место: «Устранение так называемого феодализма — хотя это и не так уж много — можно считать завершенным, но устранение национального владычества, национальных привилегий еще не закончено». И хорошенько запомни то, что Палацкий говорит о низких трюках, с помощью которых венское министерство обеспечивает немецкому меньшинству в нашей стране большинство в пражском сейме! Нельзя на это закрывать глаза — но не следует и падать духом: пусть недруги наши стремятся расширить свои владения — мы, славяне, не перестанем бороться за дорогую свободу, за избавление от ярма. В этом наша гордость и сознание нравственного превосходства.
Стремясь пробудить к жизни чешское общество, Борн завел у себя дома так называемый приемный день — каждую среду с пяти часов. Однако то ли Прага еще не доросла до столичных привычек, то ли Лиза отпугивала гостей выражением усталости и страдания, которое она напускала на себя в эти вечера, — только большого успеха среды Борна не имели. Не пестрый переменчивый кружок живых, интересных людей, которых Борн надеялся собирать у себя, а только время от времени какие-нибудь родственники Толаров являлись по средам, одни и те же лица, и чаще других — Смиховский фабрикант Смолик (у которого, по довольно меткому выражению пани Валентины, «солома из сапог перла») с супругой своей, пани Баби, племянницей покойного Толара, да — лучшее украшение Борнова салона — доктор Шарлих, приор Вышеградского капитула, бывший настоятель Клементинского конвикта, ученейший гуманист и патриот во вкусе Борна, выдающийся знаток древнееврейского и арамейского языков. Иногда на семейный огонек заворачивал и сотоварищ Борна по бальным комитетам, директор юридического отдела Чешской сберегательной кассы, доктор Легат — старый холостяк, образованный и начитанный человек, но фрондер, как отзывалась о нем пани Валентина, которой не нравилась манера Легата высказывать свои личные, как правило, неприятные, суждения. На пражских балах доктора Легата за его невероятную худобу и необычайно некрасивое лицо называли «Скелет»; он это знал, очень страдал от этого и, чтобы замаскировать горечь, которая снедала его душу, делая еще более худым и некрасивым, притворялся, будто считает себя выше привычных светских и семейных условностей, над которыми он-де саркастически издевается. До мозга костей пропитанный завистью и неудовлетворенным честолюбием, доктор Легат играл роль человека, с великолепным презрением трактующего ничтожное общественное мнение; личину эту он носил столь последовательно и добросовестно, что она стала его второй натурой.
Чтобы внести в Лизин салон некоторое разнообразие и сделать его более интересным, доктор Шарлих привел с собою — это было в одну из сред, в начале апреля — бывшего воспитанника