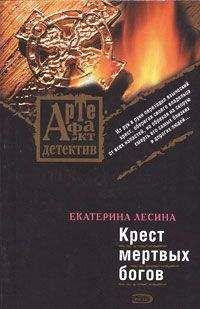удерживаемый на месте катер с тупорылым «Максимом» на носу. Окрест ничего не было видно, только синюю дрожащую полоску на дальнем, близ снежных гольцов, горизонте. Амбал спустился на катер как раз в ту минуту, когда тот стронулся с места, а потом закружил вокруг баржи смутно угадываемой как что-то неподвижное, черное. Впрочем, это прозревалось недолго, на смену пришло нечто напоминающее движение на месте, которое, хотя и убыстряется, все же не сделается перемещением в морских волнах. Амбал какое-то время не мог смотреть, как кренилась баржа, продавливая темную водную поверхность. И он закрыл глаза, а когда снова глянул туда, где предполагал обнаружить затапливаемую баржу, ничего не увидел, хотя в ушах все еще звенело что-то жутко пронзительное, нет, не крик заключенных и не проклятья и стоны, а нечто относящееся к самой барже, она, кажется, тоже не хотела исчезнуть под волнами и скрипела каждой доской, и это смешиваемое с чем-то неузнанным, предельно напрягшимся, и создавала ту жуткую пронзительность, что потрясла его душу. Странно, что и после этого, много дней спустя, он не мог успокоиться, часами напряженно думал о чем-то неясном, мало про что говорящем ему. И годы спустя он помнил об этом, хотя в том, что случилось на море, не было ничего особенного: Амбал оказывался действующим лицом в спектаклях более грандиозных, когда не одно море точно бы недоумевало. Он не запамятовал, как разыгралось синеволное в ту ночь, когда затонула старая баржа. Они едва добрались на катере до ближнего берега, как не только море, а и само небо поменялось, вдруг осветилось мертвенным светом, падал тот свет на землю, и на сердце росла тревога. И надо было одолеть это, гнетущее, и Амбал одолел, глуша себя водкой, а еще сознательной подвижкой к тому краю, за которым начиналась его власть над людьми.
Амбал по-волчьи упруго шел таежной тропой за Агалапеей и Кряжевыми, сдерживая в груди глухую ненависть, не давая ей воли. Он и здесь желал оставаться самим собой и вспомнил давнее происшествие не сразу, а когда те, впереди, спустились к темной льдистой кромке, подле которой на желтом песке, разгребенном от снега, лежал мертвый человек в длинном желтом халате и одинаково с одеянием желтым лицом и с такими же потемнело желтыми руками. Приглядевшись, Амбал убедился, что это восточный человек с маленьким круглым подбородком, и он, конечно же, не мог иметь никакого отношения к старой барже, и было непонятно, отчего Амбал вспомнил о давнем происшествии и намеревался связать его с утопленником. Но уже понимая, что не прав, он не сразу заставил себя думать о другом и с досадой наблюдал, как Кряжевы нарубили в ближнем лесу ивовых веток, а потом, связав их, смастерили носилки. Они хотели положить на носилки утопленника, когда Амбал не выдержал и вылез из скрадка. Он подошел к копошащимся людям, посмотрел на Дедыша, в лице у старца была та же озабоченность, что и у других, поморщился: «Тоже мне… хозяева сыскались… А кто же тогда тот, поднявшийся над всеми? Иль не сам-больший средь нас?.. Вроде бы как запамятовали о нем. Но да я напомню. Мелкотье!..» Эти мысли укрепили в Амбале дух, сказал холодно:
— Что, дохлого бурята вытащили из-подо льда и — довольны?.. А кто он есть? Небось вражий сын?..
— Побойся Бога! — вяло и спокойно сказал Дедыш. — Он — страдалец средь прочих таких же несчастных земле явленный за тяжкие грехи людей.
— Да что ты ему доказываешь?!.. — вскинулась Агалапея, и глаза у нее загорелись. — Больно ему надо про что-то знать! Одно в нем и есть — жажда забижать сирых да слабых, изгаляться над ними. Злыдень!..
Амбал не обратил на Агалапею никакого внимания, словно бы перед ним было пустое место. Такое ощущение рождалось в нем и прежде, когда рядом оказывались заключенные из тех, кто послабже духом, но никогда еще — свободные люди, не связанные с ним постоянной слежкой за каждым их шагом и вольные поступать как вздумается.
— А то, может, он убежал из какого-то лагеря. На обережье их нынче хватает.
Амбал считал, что после его слов все само собой образуется, и утопленника наскоро забросают землей и разойдутся. Но Агалапея вдруг зашумела, побежала в деревню, чтобы привести мужиков и баб и похоронить инородца на кладбище.
— Иль мало настрадался, чтоб и после смерти маялся?.. Ну, нет уж! Не дам… не дам…
Амбал осерчал, кинулся вдогонку за старухой, но вернулся, сказал сурово Кряжевым:
— Оттащите мертвяка подальше в тайгу. — Ткнул ногой в закаменевшее тело. — Зверью на потраву. Ишь удумала, беглого хоронить. — Помолчал, посверкивая глазами: — А может, он кому-то по духу близок?
Амбал, помедлив, снова сказал про свое, но братья не сдвинулись с места. И раньше досаждавшая Амбала ненависть к Кряжевым усилилась. Подчинись он теперь тому, что на сердце, и малости бы не помешкал, собственными руками задушил бы их. Но в том-то и дело, что он подчинялся рассудку, лишь его признавал за ту силу, что двигала им. Он подумал о другом, о том, что придет час, когда Кряжевы окажутся в лагере, в полной его власти, и тогда уж он поговорит с ними. Он не поменялся, не залютовал, и когда услышал от Кузи упрямое:
— Да ну тебя! Не хватало еще над человеком, пущай и мертвым, измываться. Нет, мы проводим его в последний путь всем миром деревенским!
— Ну, ну!.. — только и сказал Амбал, а чуть погодя усмехнулся мысленно: «Чего растравлять себя попусту? Иль я боюсь кого-то? Нет уж… В руках у меня власть, и за спиной моей тоже власть, и она сомнет любого…»
И тут Амбал увидел толпу. Она шла от деревни и разноголосила. Он проследил за ее движением, не понимая, откуда она и чего ей потребовалось на обережье и, лишь когда разглядел черную, с яростными глазами, Агалапею, догадался, что толпа собрана старухой. Он нахмурился, зашарил дрогнувшими пальцами под шинелью, но оружия при нем не было. Он оказался рядом с толпой, в которой мужики и бабы, старики и дети, здоровые и калечные, в своем уме и чуть сдвинутые с нормы, но еще не осознавшие этого и находящие в своем сдвижении успокоение. Все они в одинаково пестром лоскутном одеянии и с тусклыми, исхудалыми и словно бы закаменевшими лицами. Амбал вдруг открыл во вроде бы покорных людях что-то дерзкое и несгибаемое, и на сердце у него замутнело, захотелось уйти отсюда, ничего не видеть, ни про что не знать. А мужики меж тем