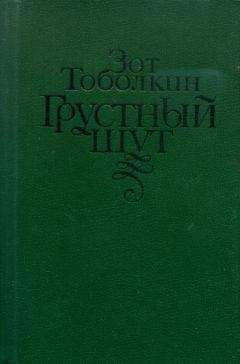— Взял обманом — на твоей душе грех… Другой грех на душу не бери. Где тятенька с мамонькой? Похоронены?
— Живы, Ивановна! Говорю, живы! Скажу, где они, слово данное не нарушишь?
— Ежели с родительского согласия венчана — сдержу слово. Сама ничего не упомню.
— Скажу по совести, родительского согласия не было. А уговор с тобой был. Хошь — снова свидетели подтвердят. Уславливались: в дом мой входишь — родителям и брату свободу дарую. Ты согласилась: мол, три жизни, столь для тебя дорогие, девичества стоят.
— Вели привести всех сюда.
— Сперва досказать дай. А не досказано вот что: царевым указом велено выслать твоих, а теперь и моих родителей в Тобольск. Они уж в пути.
— За что… выслали? Они злое не помышляли.
— Отец твой… наш отец на царя хулу возводил… налог платить отказался… мягко еще отделался. Иным головы рубят, — вдохновенно лгал Борис Петрович, легко и просто найдя объяснение. Решил спровадить Пиканов в далекий Тобольск, наказав тамошнему знакомцу не спускать с тестя глаз. А ежели надумает в побег — догнать и заковать в кандалы.
— А Тима… он жив?
— Живой… пес! — нечаянно вырвалось у князя. Он тут же выправился. — Прости за слово крутое. Досаждал он мне много. Да я не злопамятен. В Питер беру его. Ну, довольна?
Князь перевел дух. Забыл он, когда правду говаривал. Любая правда его была полуправдой. Так и сейчас. Никто Пиканов выселять не собирался. Больше того, к этой поре вышел строгий царский указ: раскольников в Сибирь не ссылать. Они работники, умельцы. Умельцы всюду нужны. Но семья Пиканов — у князя соринка в глазу. Загнать их подальше, чтоб не мешали. Ежели в пути не сгинут, то уж знакомец живыми не выпустит. А Тимка в Питере понадобится.
Оставив Дуняшу, князь тотчас отправился на подворье. Там, в конюховке, одетые по-дорожному, его поджидали Пикан и Потаповна.
— Чем бога прогневали? — вздыхала Потаповна, более всего горевавшая, что не простилась с детьми.
— Не ропщи, мать! — Пикан перебирал лестовку, успокаивал себя молитвой. А руки так и чесались сбить у прохода холопов, прорваться к князю и… Но вот и он сам.
— Когда выезжать-то? — Иван, ко всему готовый, с тревогой покосился на Потаповну: выдержит ли? Холода лютые. После пыток она совсем ослабела.
— Не задержу. Хоть сей же час выезжайте, — с видимым расположением отозвался Юшков. — Кони запряжены — с богом!
— С дочерью-то дашь повидаться?
— Дочь позже в гости к вам приедет… Мы оба приедем, — пошутил князь, не ведая, что шутка его оказалась пророческой, что недалек день, когда и его вот так же повезут в Сибирь под конвоем.
Уехали. Лишь колокольчик долго еще подавал свой серебряный голос.
Заколотили пикановские хоромы. Не суждено им дождаться хозяев. Но перед тем Дуняша побывала в родном доме, вынула из тайника нож, костяные фигурки. Вспомнила, как сиживала вечерами с братом. Где ты, Тима? Может, и впрямь свидимся в Петербурге?..
5
Тимофея нагнали в пути. Шел за санями, вел медведицу. Увидав сестру, долго и тревожно вглядывался в грустное милое ее лицо.
— Обвенчали нас, Тима… — сказала Дуняша, когда Барма покосился на рядом сидевшего князя.
— Силой взял?
— Добром… волей.
— Со стариком жить… с козлом вонючим? Сестра, одумайся!
— Ну ты! Язык-то не распускай! Окорочу! — свирепея, одернул князь, не без сожаления подумав: «А ведь, и правда, старик. Года не вычеркнешь. Токмо что не козел, тем паче — вонючий…» Вслух уже спокойней возразил:
— Я хоть и в летах, а телом крепок.
— Так вышло, — шепнула Дуняша. — Тебя, родителей наших пожалела.
— И он не раз ишо о себе пожалеет, — пообещал Барма, играя налившимися желваками. Более ни слова не вымолвив, пошел к саням, к медведице.
— В возок сядь, к Дарье Борисовне, — милостиво дозволил князь.
Да и Даша из возка подавала знаки.
— Ворон с горлинкою не пара, — усмехнулся Барма — и ошибся: не вороном он Даше казался, соколом гордым. Но Барма позже это поймет.
— Трогай! — приказал князь, толкнув в спину кучера.
Резвая тройка понесла. За ней устремился возок Дарьи Борисовны.
— А вы ступайте… свободны, — сказал Барма провожатым. Те не двигались. — Ступайте, пока в червей не оборотил! — пригрозил он и страшно захохотал.
Челядь княжеская, охранявшая его, кинулась врассыпную. Побежал и Никитка.
— Ты постой, — удержал его Барма. — Разговор будет.
Привязав лошадей, зашел с Никиткою в чащу.
— Многих ли погубил? Сказывай!
— Многих, Ти-има! Ох, многих! — оробев, каялся Никитка. Как не бояться: один на один в лесу с этим страшным человеком. Да еще и медведица тут.
— Молили они о пощаде?
— Бывало, молили.
— А ты не слушал, живота их лишал?
— Так. Все так. Одна Милодора в ночь утекла.
— За всех убиенных, за родителей, тобой мученных, за Милодору… какую казнь себе выберешь?
— Поневоле мучил. По нужде грабил.
— Вот вожжи. Вот осина. Сам устроишься или помочь? Смерть легкая, — присудил Барма.
Никитка заскулил, пал в ноги:
— Жить хочу-уу… жи-ить!
— А для чего тебе жить? Для чего землю поганить?
— Дак разе ж один я в мире душегубец? Двадцать аль тридцать душ погубил. Царь армиями на смерть посылает…
— Не токмо двадцати — одной загубленной тобою жизни не стоишь. Привязывай веревку-то! Мне с тобой некогда.
— Смилуйся, Тима! Смилуйся, клад укажу. В пещере зарыт, у Чаг-озера.
— Пещеру ту знаю. В котором месте? Аль наврал?
— Крест целую! В левом углу, под камнем. Отвалишь камень — колышек под им увидишь. Как раз над кладом забит.
— Ежели отыщу тот клад — раздам нищим, чтоб грехи твои отмаливали.
— Сми-илуйся! Отпусти! — возопил Никитка, вдвойне отчаявшись, что и клад потерял, и жизнь.
— Ты отца моего миловал? Мать щадил? Ну и молчи, пес! Молчи, не то кол забью в глотку поганую!
— Не вольный я: велели — пытал.
— Всяк в подлости своей волен. Ну, Машка, — Тимофей толкнул в бок медведицу. — Твое слово.
Она зарычала, обнюхала Никитку и ударом лапы повалила его в снег. Разбойник обмер от страха, свернулся клубком.
— Себе просишь? Бери, пользуйся им, как знаешь.
Привязав Никитку к медведице, пустил обоих в лес и долго еще стоял в раздумье один. Из кустов заяц выскочил. Барма подхватил его, сунул за пазуху и, поглаживая холодный заячий носик, направился к саням.
— Ну вот, Зая, вдвоем мы остались, — молвил с печалью Барма. — Будешь мне братом.
6
Город, хоть и Петербург, как лес дремучий. Да если люди в нем, так Барма не заблудится. Справа кабак, слева кабак. На дорогах псы голодные бродят, валяются посиневшие от холода питухи. У печных труб галки греются, орут, что-то пророча, словно знают больше людей. А может, и вправду знают больше? Что человеку известно? Лучше всего то, что рано или поздно помрет. И потому, едва родившись, молит он изо дня в день, чтоб допустил его господь в царствие свое. Увидать бы его, это царствие. Но ежели оно такое, как на земле, то для чего туда проситься? Вон мужик бредет пьяный. Ревет дурным голосом: «Ох, бурые мои! Ох, верные!..»
Барма остановил тройку, вслушался: странная песня! На всякий случай подтянул сам. В два голоса получалось лучше. Вели песню ровно: «Ох, бурые мои! О-ох, верные!..»
Из ближнего кружала на голоса выскочил целовальник. Послушал, ворчливо кинул в толпу:
— Одного знаю, Кирьша. Коней лишился. А тот, с зайцем, кого отпевает?
Никто не отозвался. Кабатчик почесался, хотел уйти, но веселый парень чем-то привлек его внимание. «Постою, — решил, — посмотрю».
— Такое место поганое, — переговаривались в толпе с опаской. — Тут не токмо кони — люди теряются.
— Кони-то купца одного, из татар. Сживет Кирьшу со свету.
— А и сживет — эка боль! Мало сжили? Нашему брату не привыкать.
Те двое все тянут:
— О-ох, бурые мои! О-ох, верные! — Слишком похоже на песню. Особенно кудряво выводит этот молодец с зайцем. Видно, мастер петь.
Барма увлекся, вел истово. Мужик, горевавший о лошадях, вдруг смолк и — боком, боком к нему. Размахнулся сплеча, порвал песню на самом высоком взлете: «О-ох, веррр…» Барма споткнулся, заикал от ядреного тумака.
— Над бедой моей тешишься? — взревел мужик, занося кулак снова. Барма выскользнул из саней ящеркой, забежал с другой стороны.
— Ну, сват, присветил ты мне! Не любишь веселье?
— До веселья мне! Шакиров заживо в землю зароет… Лошади-то его были.
— Смейся. Так жить легче.
— Не смеется.
— Пробовал?
— Вымерз смех-то во мне до самого донышка.
— А вон в левом глазу смешинка, и в правом две вижу. Так, Зая? — Барма дернул зайца за уши. Глаза зверька заморгали, поползли в стороны. Толпа захохотала. И казалось, заяц хохочет, часто перебирая лапками. Мужик сдернул с нечесаной головы шапку, заозирался и тоже выронил, как кочет: «Хо-хо». Барма двинул его в бок кулаком, двинул в другой — щекотно! Больно, но смешно. Мужик подарил еще парочку «хо-хо» да как рванул простуженным басом — кони прянули.