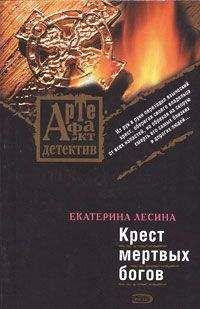она задержалась, хмуро посмотрела вверх, подумала про тех, кто на вышке, в солдатской форме, и про тех, кто в лагере, в арестантской одежде, что не любит она их и не ищет меж ними разницы, все они виноваты в напасти, свалившейся на деревню.
Евдокия еще не скоро сдвинулась с места, а когда забрела в затишек, близ деревенской околички, где лагерная обслуга тянулась поднять еще один забор, неожиданно услышала отчетливое поскрипывание чего-то неживого, поскальзывание, может статься, производимое доскою об доску, а чуть погодя тихое, сторожкое, уж наверное, не с небес павшее, покашливанье и посапыванье, точно бы кто-то уморился и не наберет дыхания, в груди прерывается и дышится тяжело…
— Э-ге-гей!.. — крикнула Евдокия и затаилась. Но и стоять долго невмоготу, укорила себя за слабость.
— Тю, — сказала негромко. — Вроде бы как боюсь кого-то… Еще не хватало! Будь впереди хоть сам дьявол, все одно, пойду!..
Так и сделала, но вдруг столкнулась с кем-то невидимым и, должно быть, от страха, вцепилась в чью-то курмушку задеревеневшей рукой. Тот, невидимый, выказал проворность, начал что есть мочи вырываться, тянуть в свою сторону; так они и стояли, дыша захлебисто, вдруг Евдокия сказала недоверчиво:
— Ты ли это, Краснопеиха?..
И та узнала товарку, вздохнула с облегчением:
— Язви, чуть всю сиську не оборвала. Разожми пальцы-то!
Легко сказать, разожми, а если пальцы не слушаются?.. Все же спустя немного Евдокия опустила руку, чувствуя, как ноет в кончиках пальцев и что-то там вздрагивает, взметывается, точно бы кровь туда ударяет…
Евдокия облокотилась о забор, приходя в себя и со вниманием поглядывая на Краснопеиху: шальная мысль обожгла ее (Шальная, конечно, какая же еще?..), что доски от забора отдирает Краснопеиха. Почему бы и нет? Вблизи-то никого, а доски, вон они, под ногами валяются, куда ж от этого денешься?
— Доски-то, слышь-ка… — тихо сказала Евдокия. — Иль впрямь твоя работа? А муженек, что же, не мешает? Он ить к теперешним хозяевам льнет, вроде бы как в неоплатном долгу у них?.. Иль не ты курочишь забор, другой кто-то?..
— Да я… я… — тихо сказала Краснопеиха и заплакала. — А мужик про это сном-духом не ведает.
— Ну, ладно реветь-то, — вздохнула Агалапея и неожиданно для себя добавила: — Хошь, подсоблю?
Она с силой налегла на забор, расшатывая, потом дернула одну из досок, та скрипнула. С ближайшей вышки раздался выстрел, чуть погодя еще один…
— Пуляют, — испуганно сказала Краснопеиха. — Ить по нас злыдни пуляют. Мы что, цель?..
— Цель, — сурово обронила Евдокия. — Еще какая цель!
Она выждала, когда над ближней вышкой перестали взблескивать острые огненные язычки, и опустилась на землю и вдруг всхлипнула от чего-то странного, накатившего, потом в другой раз всхлипнула, а скоро тихонько засмеялась. Краснопеиха чуть погодя тоже завсхлипывала от какого-то чудного икотного смеха, дотянувшись руками до товарки. Так они сидели и хохотали, уже не сдерживаясь, как бы начисто позабыв о страхах, точно бы их никогда не было, как не было и сторожевой вышки.
А песня все неслась, неслась, и слова в ней звучали такие, что даже Револю за душу брали.
«В 12 часов при темной ночи
Убили Лешу-молодца…
Назавтра отец с младшим сыном
Поехали Алешу поднимать…»
Однако ж Револя совладал-таки с той силой, что исплескивалась из песни, из слов ее, придавливала к земле, рождала непривычные мысли не о себе, не о власти, которой теперь служил, хотя и не понимал ее до конца, не мог уразуметь, в чьих руках она сосредоточена, какому еще Богу молится, кроме золотого тельца? — а о чем-то еще, о земле ли, что под ногами и вроде бы живая, точно бы шевелится и вздыхает, о небе ли, что над головой низкое и пасмурное, про него Револя никогда не задумывался, а вот нынче взял в голову, и это заставило беспричинно тревожиться, искать в себе что-то несвычное с его сердечной сутью, что-то пугающее.
«Мамаша слезами облилася,
Сестренка братишку обняла.
Мамаша постельку постелила,
Сестренка подушку поднесла…»
Револя стоял посреди темного леса, как тать, настороженно прислушиваясь к сделавшейся к этому времени чуждой ему и отталкивающей нездешней, немирской печалью мелодии и старался угадать, откуда она исходит?.. В какой-то момент подумал, что угадал, и заспешил в глубину леса, обрывая руки о голый колючий кустарник и глубоко проваливаясь в снег. Но, чем дальше он шел, тем больше отдалялась от него мелодия. В конце концов, он осилил упрямство, которое было едва ли не главной чертой его характера, и остановился, навострил уши, потом опять пошел, но уж в другую сторону, и опять с ним случилось то же самое, что и минуту назад.
«Заройте, заройте мне могилку
Холодным желтеньким песком.
Украсьте, украсьте мне могилку
Печальным аленьким цветком…»
Он долго ходил по лесу, а мелодия теперь уже ненавистной ему песни была так же далека. Казалось, сам хозяин тайги отстранял его от песни, опасаясь за нее. Впрочем, так мнилось лишь в отдельные минуты, все же остальное время в Револе жила злость, она накапливалась, пока не стала столь велика, что он уже не мог сдерживать ее и, все убыстряя шаг, неожиданно для себя, для той части своего существа, что еще не задурманилась яростью и подчинялась ему, завыл, но не по-волчьи, а как ошалевшая от голода и таежного одиночества побродяжья собака. Он завыл тонко и скуляще, но и сквозь эту явленную им слабость наблюдалась несупрямленная злость. Он завыл, и мелодия смолкла, захлебнувшись, спустя немного снова зазвучала и, кажется, сильнее прежнего. Этого уже он не мог стерпеть и начал бегать по лесу, тычась в разные углы, подчас забираясь в глухие укромины, пока совершенно не обессилел. И тогда он упал на мягкую снежную землю и долго лежал, не шевелясь, и можно было подумать, что внутри у него оборвалось, и он не подымется. А мелодия все звучала, хотя теперь уже и без слов, но Револя подумал, что это не так, и в песне есть слова, и они направлены против него. Ах, как хотелось ему отыскать того, кто пел, и поговорить с ним по-своему! Ах, как хотелось!..
А потом он поднялся с земли и медленно двинулся к деревне. Но, не доходя до околички, свернул к высоким лагерным воротам, велел охраннику позвать старшого, долго говорил с ним, после чего