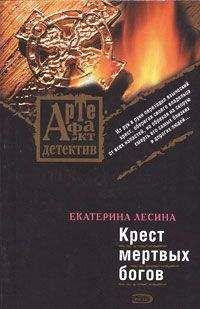пуще всего задело мужика, как ножом полоснули по сердцу — больно, и мысли в голове разные, и нет среди них ни одной, что успокоила бы. Что же это за порядок, коль сплошь темно? Это и нагоняло тоску. «Да нешто ничего уж не поменяешь в жизни, так и будет она подминать под себя слабые людские души?.. А что, как я не захочу подчиниться? А что как в миру воспротивятся этому? Вон как вчера деревенский люд подбадривал друг друга и находил добрые слова для тех, кто ловчил вытеснуться из людского ряда. Это помогло на время запамятовать дурное, гнетущее, унижающее, стремящееся истоптать не только душу, а и само человеческое тело».
Забытье, что пало на людей, приятно ласкало и, казалось, долго еще не исчезнет. Но исчезло, во всяком случае, для Евдокии и Евдокимыча, растоптанное дьявольской силой, она навалилась огромная, всевластная, требующая поклонения себе и достигающая своего с помощью неземного наваждения, в подсобление Револе и Мотьке, охранникам, что уже не рыскали по избе, а столпившись в переднем углу, под образами, сыпали матом и сплевывали на пол, не умея найти другой забавы. Но вот кто-то отделился оттуда и спросил, подойдя к Евдокимычу, кто-то серый и тусклый:
— Небось вчера и ты с бабой орал на кладбище непотребное?
У Евдокимыча толкнулось в сердце и точно бы вдруг кипятком обожгло горло, задышисто сделалось, не хватало воздуха, но не это остановило, он, может, и сказал бы, что так и тянуло сказать, да не успел… Евдокия вдруг закричала, выдергивая из Мотькиных рук кусок сатина:
— Ты чего у ребятишек забираешь последнее? Поимей совесть!..
Евдокимыч услышал и сейчас же запамятовал о своем намерении. Он так и не понял, нарочно ли жена затеяла свару с Коськовой, чтоб отвлечь его от горьких мыслей и не дать сорваться ему, иль это получилось у нее нечаянно и безотносительно к нему? Она кричала и все вырывала из сильных Мотькиных рук кусок сатина, да где уж сладить с Коськовой, здоровущая, не уработанная, воду бы на ней возить…
— Поимей совесть, Мотька! — кричала Евдокия. — Ты ить из нашего мира, из деревенского. Пошто же ты зачужела-то?!..
Мотька в первые минуты точно воды в рот набрала, а потом зашлась в крике:
— Как ты смеешь, сука! Иль запамятовала про моих родимых — папеньку и маменьку? Пошто же вы не дали похоронить их по-человечески? А-а!.. — Она вдруг обернулась к двойнятам, яростно посверкивая длинными глазами. — У, подлое семя!.. Ненавижу! Ненавижу! — Чуть попридержала крик, швырнула кусок сатина на пол. — Да на что мне твои тряпки? Подавись ими!
Револя подтолкнул Мотьку к двери, она с неохотой подчинилась. А когда вышли из избы и охранники, Евдокия обессиленная опустилась на табурет, закрыла лицо руками, заплакала. К ней подбежали двойнята, поднятые с постели. Евдокимыч вздохнул и вышел на подворье, долго стоял на крыльце, наблюдая рождающееся утро. Тусклое и незрячее, оно тыкалось слабым светом в густую обвислую темноту и, точно бы робея, отпугивалось, как бы ужималось, однако ж через какое-то время, набравшись духу, снова втискивалось в глухую темноту, расталкивая ее и мало-помалу наливаясь молодой силой, и вот уж можно было увидеть дальние, по изгибчивому заулку, у самой околички, тонкоствольные березы, они прогибались, касались друг друга голыми лапками веток и тут же как бы в смущении отшатывались, но через какое-то время повторяли свою попытку, которая заканчивалась так же, как и первая.
Евдокимыч спустился с крыльца, прошел к стайке, выпустил телку, задал ей сена, отодрав от стожка, что подымался сразу же за стайкой острой, изжелта темной вершинкой, долго смотрел, как комолая сначала лениво, а потом все шибче, изредка кося на хозяина большим мокрым глазом, поедала сено.
— Ну, ладно, ладно, — с легкой досадой, точно бы телка поступила пускай и в малости противно его намерениям, сказал Евдокимыч и отошел к избе, отыскал в задомье побитую, на коротком черенке, из тонких гибких прутьев, метлу и принялся обметать дорожку, проложенную к воротам, что нынче при поднявшемся солнце сияли ярко и весело. Евдокимыч, понимающий про свое подворье, сказал как бы даже с неудовольствием:
— И чего завыставлялись, расхвалились?..
Впрочем, скоро он запамятовал про это, были заботы поважнее. Только он не сразу понял, о чем те заботы, чего касаются конкретно, его ли самого, деревни ли, но, может, того, что отдалено верстами. Странные эти заботы. Евдокимыч благодаря им становился как бы не сам по себе, а еще и то, что его окружало, и все это сливалось и делалось огромным на удивление. Тем не менее не прибавляло в нем уверенности, напротив, расслабляло, вдруг виделись еще и чужая боль и обида, они тоже касались его сердца и мучали. «Ах, ты, Господи! — думал Евдокимыч. — И что творится с людьми, отчего они оборачиваются в лютых зверей и уж не приблизиться к ним и словом не обмолвиться про доброту ли сердечную, про ласковость ли, без чего жизнь скудеет?!..» То и были его заботы. И так, и этак он подступался к ним, и все не мог совладать, точно бы в диковинку ему, точно бы сроду не встречался с ними. Да нет же, нет!.. И прежде они беспокоили, а нынче подошли к своему пределу, иль даже хватили через край, после чего перед глазами замаячила пустота. Ох, как хорошо понимал Евдокимыч, что нельзя жить с пустой душой, опаскудеешь тогда, обнищаешь духом. Нет, нельзя жить без людского участия, не все ж оно пораскидано, порастоптано, загнано вусмерть погоней за большими деньгами!
— Быть того не может. Не верю!
Что же подвинуло Евдокимыча к краю? Неужели то, что нынче все в доме перевернули? Иль в первый раз?.. Нет, не это по нынешним временам привычное дело подвинуло его к краю и чуть не поломало надежду, которой он жил и которая несмотря ни на что помогала ему не потерять себя, а то, что это в сущности привычное дело вдруг увиделось ему не в меру большим, пространственным, все перед глазами заслоняющим, и белый свет, точно бы уже нет ничего, и его самого нет, и милой Евдокии, и родимых детишек, а есть что-то злое и грозное, над ними изгаляющееся, чего нельзя умилостивить ни добрыми, от сердца, словами, ни мольбой матери, ни даже детскими слезами. Евдокимыч спрашивал у себя: что же, больше ничего нет, осталось только это?.. Он спрашивал, когда подметал во дворе и когда зашел в избу, чтобы попить чаю, и позже, уже отдалившись от околички и спеша