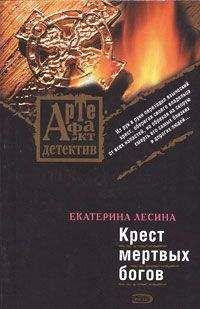ни на минуту не утихающей, от нее человеку делалось несвободно и жутко. Но странно, эта несвобода кое-кому пришлась по сердцу. И раньше стремившиеся отвернуться от Божьей благодати, нынче они и вовсе распоясались, почувствовав себя ни от кого не зависимыми, хтя бы и от Всевышнего. Далекие от Бога, застылые душой, что отторгнула зерна, творящие мир, они двигались от одного злого дела к другому, и все больше укреплялись, и это было страшно, за ними маячила неотвратимость гибельности, надвигающейся на примолкшую в тревожном ожидании русскую землю.
Но братья нынче не об этом думали, не о том, что остро чувствовали освобожденность от условностей, а о нежном и ласковом, что растолкало сердце, и уж не унять, так и пребывало бы, колеблемое чужеродной мыслью, все ж наступил предел, после чего их чувства начали разниться. Это когда братья оказались на околичке деревни близ сгорбатенного, с пустыми глазницами окон, с настежь растворенными дверьми, никорослого пятистенника. Хозяев в прошлую седьмицу, подчистую выгребя нажитое ими и растолкавши по хватким рукам, вытолкали с подворья за долги, а дом, сказывали, разбивши по бревнышку, свезут в уездный городок.
Егор поднял голову, и тут увидел Ленчу, и радость в нем сделалась еще сильнее. А Кузя в это же время чуть подостыл от придавившей его ласковости к сущему. Вдруг появилось беспокойство за брата. Нет, он не сказал бы ничего худого о Ленче, вроде бы понимал ее и не желал бы для брата другой девушки. Но смущало то, что стояло за нею, в последнее время в особенности. Это было заметно при встречах с отцом Ленчи, суровым и хмурым человеком, который еще больше суровел и хмурился, стоило ему увидеть братьев. Но что Кузя мог поделать с Егоровой любовью, иль поломаешь ее, сумасшедшую, а для брательника еще и на весь свет одну такую?.. Сам Кузя не испытывал ничего подобного и удивлялся Егорову чувству, и пугался. Вместе с тем он ничего не предпринял бы против него, если бы даже выпала такая надобность. Все, что в душе, тихое и притаенное, сокрытое и от себя, не дало бы ему поломать братнино чувство и, вполне вероятно, повелело бы стать оберегателем чужой любви. А беспокойство, ну, что ж, оно и впрямь в нем упрямое и покалывающее, точно боль. И нет возможности совладать с ним, как нет желания поведать о нем брату. И Кузя и нынче не обронил ни слова, лишь пожал плечами и ушел. И вовремя. Впрочем, Ленча могла бы и при нем сказать Егору все, что намеревалась сказать. Она как бы не замечала Кузю, и, если бы нынче Егор вспомнил о нем, она не сумела бы сразу понять, о ком идет речь. Но скорее Кузя существовал в ее сознании только как человек близкий и дорогой для любимого, а значит, и для нее тоже. Но нынче все ее существо тянулось к другому, желало другого, и она вдруг остановилась посреди темной улочки и начала говорить сначала тихо, а потом все громче и громче:
— Я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мною. И я не знаю… не знаю… Но я так хочу… хочу… Пойдем же… Пойдем к тебе. Ну, что же ты?..
Она хотела принести себя в жертву, вот именно — в жертву любви. Она даже сама пару раз произнесла эти слова, и они неожиданно понравились ей своей новизной. Она как бы играла поглянувшуюся роль, но играла неосознанно, даже не догадываясь о том, что играла. Впрочем, не мудрено, что она не замечала этого, игры было все же мало, да и та, что высвечивалась, находилась как бы вне душевного состояния Ленчи, лишь слегка задевая ее и не мешая тому, что в ней совершалось. Все в Ленче нынче по-другому. И она сознавала это и была упорна в достижении цели, которая влекла ее. И не стыдилась своего устремления.
— Да, я так хочу…
Поменялось нынче в душевном состоянии Ленчи, но поменялось и в Егоре, и это соединило их еще более крепкими узами, сблизило.
Ленча была в избе, где жили братья. Ей тут все нравилось, по душе пришлись висящие на стенах златотканные коврики. «Мамина работа», — сказал Егор. На полу тоже лежали коврики, хотя и не блещущие, точно бы приглушенные, затененные, но с тем же рисунком. Нравилось Ленче и смущение Егора. А что же он сам?.. Для него все в избе, если бы не возлюбленная, казалось бы пусть и не отчужденно, то привычно скучно и обыденно. Но любимая нынче рядом с ним и так близка, что и не знаешь, радоваться ли, окунуться ли в сомнение, ведь долго так продолжаться не может, и возлюбленная уйдет. А что, как по прошествии времени то, что произошло с ними, увидится ей в другом свете, и она отвернется от него?.. А он уже теперь знает, что не сможет жить без нее.
Егор вдруг стал неприятен самому себе, мысли в голове разные, мнится, что он воспользовался слабостью девушки и не упустил предоставившейся возможности удовлетворить не одно лишь самолюбие. И еще ему мнится, что любимая раскаивается, хотя он ощущает тепло ее тела и боится лишний раз пошевелиться, чтобы не обеспокоить Ленчу, задремавшую на его руке. А что как виноватость будет мучать ее денно и нощно? Он не хотел бы, чтобы так случилось, он слишком дорожил возлюбленной, чтобы допустить это. В душе у Егора все точно бы сдвинулось, и теперь она, раздерганная и ослабевшая, не могла обрести покоя, да и не стремилась к этому, словно бы по нраву ей пребывать в тревожном движении, не ведая, что ждет ее впереди.
Ленча открыла глаза, приподнялась на локтях, сказала дрогнувшим голосом, склонившись над Егором:
— Мне пригрезилось что-то страшное. Словно бы тебя уже нет рядом со мной, ты исчез, растворился в ночи. Я кричу, кричу, но ты не откликаешься. Господи, что же это такое?!..
Странные интонации услышались Егору в голосе Ленчи, как бы не ее, а чьи-то еще, может, его покойной матери, она тоже вот так же, помнит, восклицала, и страх метался в ее глазах. И то, что в голосе у Ленчи было еще что-то незнаемое, успокаивающе подействовало на него, и в душе все начало уставляться на привычное место, но тут раздался сильный стук в дверь, та задрожала, заметалась, а потом и сорвалась с петель. Егор соскочил с постели и засветил лампу, увидел в дверях Ленчиного отца, огромного