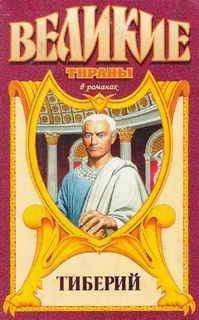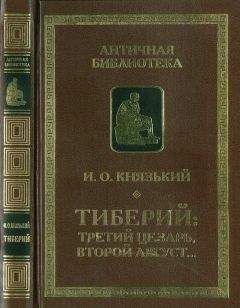Жестокость всех этих мер в короткий срок восстановила порядок в городе и успокоила Августа. Он лично возглавил комиссию по набору рекрутов, на свои средства снарядил и вооружил легион и, видимо, так воодушевился этим, что собрался во главе нового войска идти к Рейну. И действительно, выступил в поход, если и не для того, чтобы продемонстрировать свое былое воинское искусство, то хотя бы с целью вдохновить солдат и офицеров: если уж император, несмотря на преклонный возраст, рвется в бой, то им и подавно следует не щадить жизней. Впрочем, Август дошел только до предгорий Альп и там оставил войско, передав командование Тиберию.
Прославленный полководец, только что увенчанный триумфальными украшениями (правда, из-за общего траура отложивший столь долго ожидаемый триумф), Тиберий на этот раз не стал прибегать к активным военным действиям. Он считал, что не имеет достаточно сил, чтобы прямо сейчас пытаться вернуть потерянные германские земли. По-прежнему Рим был вынужден держать крупные соединения в Паннонии, в обеих Галлиях, чтобы удерживать народ от возможных мятежей — вероятность их возникновения сильно возросла после того, как повсюду разнесся слух об успехе германцев. Тиберий с несколькими легионами приблизился к Рейну и встал там, не делая попыток пересечь реку. Поскольку Арминий и Сегимер также не нападали, Тиберий получил возможность как следует укрепиться на этом рубеже. О скорой победе над взбунтовавшимися германцами и речи быть не могло, но зато Италия была теперь надежно защищена от вторжения.
Так прошел год. Страсти в Риме понемногу улеглись. Гибель Вара уже не воспринималась как катастрофа, она теперь вызывала в душах граждан справедливый гнев. В сенате все чаще поднимался вопрос о возвращении утраченных боевых знамен, и Август, понимавший, что вернувшиеся в Рим орлы помогут смыть общий позор, стал требовать от Тиберия решительных мер. Тиберий же, чья осторожность стала просто патологической (пример Вара все время стоял у него перед глазами), в своих письмах Августу оправдывался тем, что не может полностью полагаться на войска — солдаты плохо обучены, большинство видело противника только издали, армию нужно еще долго муштровать, чтобы она стала готова одерживать победы. В одном из писем Тиберий сообщил Августу, что пока не может быть спокоен даже за собственную жизнь, потому что солдаты из рук вон плохо справляются с такой простой службой, как охрана лагеря: к палатке главнокомандующего беспрепятственно пробрался один бруктер, переодетый легионером, и только бдительность самого Тиберия помогла избежать трагического случая. Заметив незнакомое лицо, Тиберий поднял тревогу, бруктера схватили, и под пыткой он сознался, что послан Арминием.
Германик в то время находился в Паннонии за вполне мирным занятием — он восстанавливал разрушенные военные городки, назначал судейских чиновников, следил за сбором налогов, то есть утверждал мирный порядок жизни в покоренной провинции, фактически выполняя роль наместника. Это занятие ему было не очень по душе — потеря зарейнских земель, завоеванных его отцом Друзом, и захваченные германцами боевые орлы — все это жгло отважную душу Германика незатухающим чувством позора. Германик то и дело обращался к Августу, прося назначить в Паннонию кого-нибудь другого, а ему позволить присоединиться к Тиберию, — возможно, вдвоем они сумеют должным образом повысить боевой дух солдат, расправятся с мятежниками и вернут знамена. Тиберий знал об этих просьбах пасынка, и они тревожили его. Появись здесь, на Рейне, пылающий жаждой мщения Германик — и от активных боевых действий не отвертеться, чтобы не выглядеть трусом. А более или менее спокойная жизнь на германской границе Тиберия вполне устраивала и сейчас, и на будущее, сколь угодно долгое: ему до смерти надоело воевать. Он надеялся, что надобность в немедленной войне понемногу отпадет, и уже можно будет не подвергать свою жизнь опасностям. Чем дряхлее становился Август, тем больше Тиберию хотелось остаться в живых к тому моменту, когда император умрет.
Август, однако, не отказывался от мысли вернуть орлов. Он уступил просьбам Германика и отозвал его из Паннонии, чтобы тот мог присоединиться к войскам на Рейне. Августу хотелось, чтобы деятельный Германик расшевелил Тиберия. Так оно и вышло. Тиберий сразу потерял возможность свое топтание на месте оправдывать неумением солдат воевать: войско встретило приезд Германика с восторгом, словно один вид молодого красавца полководца (как две капли воды похожего на прославленного отца) заставил римских воинов вспомнить о том, что они непобедимы. Тиберию пришлось, скрипя зубами от злости, обсуждать с Германиком (в присутствии легатов) планы молниеносных и сокрушительных ударов по врагу. И, соглашаясь с этими планами, время от времени выдвигаться за Рейн в поисках противника, которого надо было разбивать.
Противник же не очень стремился к большому сражению, применяя проверенную тактику внезапных нападений из засад, ловушек, поджогов и прочих мелких пакостей, вроде заваливания камнями и грязью источников с питьевой водой, захвата возов с продовольствием и тому подобного. За Рейном — до Северного моря и Моря Свенов — лежали необъятные земли, и покорить их лишь с помощью нескольких легионов да воинских талантов Германика и думать было нечего. Для этой войны еще не пришло время, и Тиберий, например, вполне ясно понимал, что вся возня с походами во вражеский тыл — всего лишь способ удовлетворения римского самолюбия, нечто вроде размахивания мечом после того, как сражение уже закончено.
И Рим, как ни странно, был очень доволен этой бессмысленной войной, хотя она и требовала больших расходов. Сенат расточал Тиберию и Германику комплименты, им присуждались (заочно) почести и награды. Август, словно под конец жизни оценив по достоинству труды и заслуги Тиберия, всячески старался умаслить его, засыпая любезными посланиями: «Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, — писал Август, — то разрази меня бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом! Умоляю, береги себя: если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас, и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет — велика важность, если ты не будешь здоров! Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне и всегда, если им не вконец ненавистен римский народ».
«Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным, — писал Август Тиберию в другом письме, — приходится ли на что-нибудь сердиться, клянусь, я тоскую о моем милом Тиберии, вспоминая славные строки Гомера:
Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба С ним возвратимся: так в нем обилен на вымыслы разум». «Я могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий: я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Все, кто был с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха: Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». Тиберию оставалось лишь дивиться тому, что Август, обращаясь к нему, прибегает к помощи стихов. Пожалуй, на главный вопрос, мучивший Тиберия много лет, следовало ответить положительно: да, Август наконец привык к мысли о том, что императорская власть после его смерти перейдет к Тиберию. Старик, чувствующий приближение конца, старается убедить самого себя (и общественное мнение, конечно), что Тиберий — законный и достойнейший наследник. Все эти письма, разумеется, становились широко известны в Риме — Ливия прилагала достаточно стараний, чтобы они были размножены и распространены.
Итак, приближался главный момент в судьбе — письма матери содержали недвусмысленные намеки на этот счет. Август в сенате уже заявлял, что хочет представить сенат Тиберию, а не наоборот Тиберия сенату, это значило, что передача наследства не за горами, и ни для кого не должно быть секретом имя следующего императора.
Вместе с тем, писала Ливия, она сильно встревожена чудачествами мужа, не такими уж безобидными, как можно было от него ожидать. Август ни с того ни с сего озаботился положением сосланного на остров Планазию Агриппы Постума, часто заводит о нем разговоры, поругивает себя за то, что был несправедлив к родному внуку (а что есть наши внуки, как не продолжение нас самих?) и, возможно, поверил наговорам на несчастного юношу. Август говорил, что, как ни силится, не может вспомнить за Агриппой Постумом какой-то определенной вины или тяжелого проступка, за который его следовало бы сослать. И, что самое любопытное, — когда Ливия пытается напомнить мужу, как необуздан и жесток был Постум, каких бед он мог натворить, если бы вздумал удовлетворять свое честолюбие с помощью толпы своих приспешников — таких же беспринципных негодяев, как и он сам, — Август уходит от разговора, желая остаться при своем мнении.