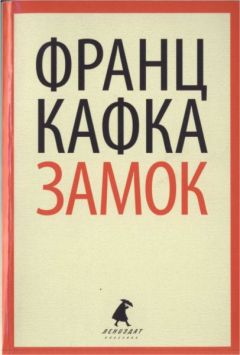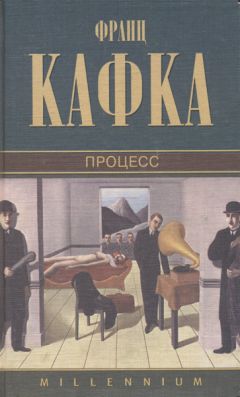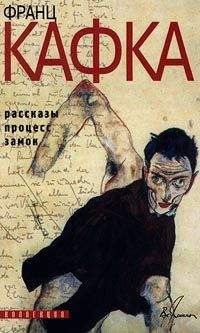отнюдь не одна, у нее есть дочь Марианна.
– Ну да, разумеется, у вас и правда есть Марианна… – уступила миссис К. – А вы сами, в смысле ваше собственное дело, оно как-то продвигается? Шансы на то, что вас переведут из Второй категории нежелательных иностранцев в Третью, есть?
Она ответила, что да, шанс есть – совсем крохотный, но все-таки.
– И в чем же он заключается, этот ваш крохотный шанс?
– Понимаете, – объяснила Дора, – я вам уже как-то говорила, что когда-то была замужем за писателем, хотя с тех пор прошло уже семнадцать лет.
– Да, говорили. Актриса и писатель – мне это показалось так романтично. Продолжайте…
Дора объяснила, что недавно на нее вышла одна студентка, некая Ильзе Шравиц, изучавшая в Лондоне литературу и готовившая диссертацию по творчеству писателя Франца Кафки. Один только бог знал, какими судьбами летом того 1941 года ей удалось узнать, что жену Франца Кафки отправили в лагерь на острове Мэн. Некоторые даже называли это чудом. Она вбила себе в голову обязательно ей помочь и подключила к этому делу свою преподавательницу философии, которая уже не первый год участвовала в работе по приему и размещению беженцев. Они на пару обратились к властям, предприняв все положенные в таком случае демарши. Но понять, насколько успешны были их усилия, это уже совсем другая история…
– Я ничуть не сомневаюсь, что это сработает! – восторженно воскликнула миссис К. – И если я все правильно поняла, решением вопроса вы будете обязаны вашему первому мужу, писателю… напомните мне его фамилию…
– Кафка, Франц Кафка.
– Да-да, выходит, что ваша дочь получит свободу благодаря Францу Кафке и тому интересу, которым к нему прониклась эта студентка?.. Красивая у вас получается история, необыкновенная, вы не находите?
Дора не могла выдавить из себя ни слова. По ее щекам катились слезы. Миссис К. достала носовой платок, аккуратно их вытерла и сказала:
– Поплачьте, Дора, поплачьте, вы имеете на это полное право. Плачьте. И не забывайте, что бедам рано или поздно всегда приходит конец.
1972
Роберт
Он поставил подпись под записью в протоколе госпитализации Джека Р. Форстера, радуясь, что, несмотря на трудности, обусловленные топологией заболевания и размером опухоли бронхов, операция прошла хорошо. Его анестезиолог Самуэль Левин потрудился на славу. Что же касается Ирвина Зелигмана, его многообещающего ассистента, можно было только радоваться, что в отделении хирургии грудной клетки бруклинской больницы Управления по делам ветеранов у него появился отличный преемник.
– Профессор Клопшток, – сказала миссис Глэдис, переступая порог кабинета и ставя на стол чашку с кофе, который за пару минут до этого сама же вызвалась приготовить, – напоминаю вам, что наша скромная церемония состоится через полчаса в актовом зале.
– Спасибо, Глэдис, я учту.
– Как всегда, без сахара?
– Как всегда, – с улыбкой ответил он, а когда секретарь уже повернулась и шагнула к двери, добавил: – Миссис Глэдис, я могу задать вам один вопрос?
– Обычно, профессор, никакое разрешение для этого вам не требуется.
– Я просто хотел узнать, не выглядел ли все эти годы в ваших глазах слишком суровым начальником?
– Суровым? Вы? Да побойтесь бога, профессор Клопшток! Конечно же нет! Миссис Хаттингтон так действительно могла подумать, я это точно знаю, вы и сами не раз давали это понять, но прошу вас, я не хочу, чтобы вы уходили из нашей больницы с таким тягостным чувством в душе. Вас считали любимым хирургом пациенты, коллеги и ученики, вы были требовательным преподавателем, порой даже слишком, но всегда справедливым. Вас все просто обожают, хотя это вы знаете и без меня.
– За исключением миссис Хаттингтон?
– И еще, пожалуй, Самуэля Левина… – ответила она, прыснув со смеху. – Если других вопросов у вас нет, я пойду дальше приводить в порядок ваши бумаги. Знаете, разобрать их – адская работа. От библиотеки мне тоже избавиться?
– Нет, Глэдис, книги не трогайте. Ирвин сам решит, какие из них оставить, а какие нет… А насчет бумаг я вам уже говорил, не возитесь с ними все утро, выбросьте весь этот хлам.
– Как скажете, профессор.
С этими словами она закрыла за собой дверь.
Настенные часы отмерили шесть ударов. Через полчаса он навсегда покинет стены отделения хирургии грудной клетки, которым руководил два десятилетия. За это время прооперировал тысячи пациентов. Разработанные им методы проведения операций приобрели тысячи сторонников по всему миру и превратили его в одного из международно признанных специалистов по хирургическому лечению последствий туберкулеза. Его наградили всеми мыслимыми медалями и приглашали на самые разные симпозиумы. Ему самому казалось, что все эти годы он провел в операционной со скальпелем в руке. Теперь можно будет спокойно доживать свои дни с Жизель в их нью-йоркской квартире в доме 60 по Западной 57-й улице.
– Наконец-то у тебя появится возможность писать, – без конца повторял ему Мелвин Мейерсон, с которым они дружили.
– Я и без того уже многое написал.
– Я имею в виду не научные статьи, Роберт, а книгу всей твоей жизни, в которой ты опишешь встречи с самыми разными людьми и свою историю!
Писать историю жизни у него желания не было. Он никогда не любил возвращаться в прошлое и теперь, когда ему скоро исполнится семьдесят три, тоже не собирался. Поэтому, несмотря на настойчивые просьбы миссис Глэдис, не хотел ничего уносить домой из этого кабинета, наполненного воспоминаниями.
Может, надо было отойти от дел раньше? Бремя возраста не давило на него никогда. Все операции, вплоть до последней, казались ему битвой с болезнью и с самим собой. Каждый пациент, скончавшийся на столе, нес на себе печать тяжелого поражения, каждый случай выздоровления благоухал ароматом победы, насладиться которой у него попросту не было времени.
– Ты же в прекрасной форме, Боб, – говорил ему Мелвин Мейерсон, – а стать писателем можно в любом возрасте.
Болтай больше, Мелвин! Как раз нельзя, это тебе говорит человек, присутствовавший при смерти Кафки: писателями рождаются, писателями и умирают. К тому же быть ему сочинителем или нет, решал совсем не он. В противном случае он никогда бы не медлил и не ждал. Одной рукой оперировал бы, а другой писал. Кафка ошибся – ни к ученикам Достоевского, ни к апостолам Христа Роберт никакого отношения не имел. Даже если по выходе из операционной окружающие время от времени утверждали, что его руки творят настоящие чудеса. Даже если в пятидесятых годах вместе с Жизелью решил отречься от своей веры и перейти в другую, как до него Франц Верфель и Альфред Доблин.
Он больше не