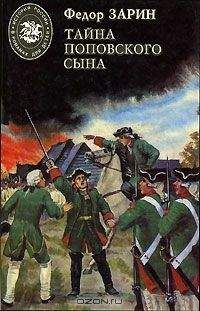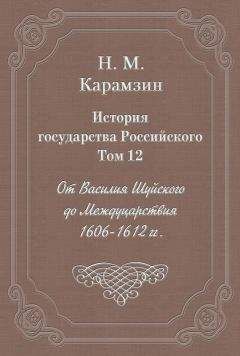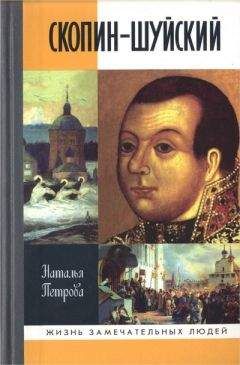— И ты решил предупредить нас?
— Рази я один, у нас многие недовольны. Мне сам сотенный велел: «Скачи, Перстень, предупреди, нехай запирают ворота».
— Ты побудь здесь, Данила, я пройду к архимандриту.
— Хорошо. Мне не к спеху, нехай конь трошки передохнет. — Троицкий архимандрит Иоасаф, седой маломощный старец, согнувшийся от преклонных годов, узнав в чем дело, вызвал своего служку Селевина:
— Ося, милая душа, добеги позови Голохвастова, Девочкина ну и дьякона Шишкина, ежели не занят.
Вскоре явились к архимандриту второй воевода Алексей Голохвастов, казначей Иосиф Девочкин. Дьякон Гурий Шишкин не смог, был занят по службе.
— Жаль, отца Аврамия нет, — вздохнул архимандрит. — На Москве он, при государе. Сказывай, Григорий Борисович, все послушаем, вместе и решим, как быть.
Князь пересказал все, что узнал от казака Данилы Перстня.
— А это не нарочитый ли подсыл от Сапеги? — предположил Алексей Голохвастов, втайне недолюбливавший князя, недавно заступившего на место первого воеводы, на которое целил Голохвастов.
Долгорукий с усмешкой взглянул в его сторону:
— Какая корысть Сапеге предупреждать нас о своем приходе? Я думаю, надо немедленно предупредить села Клементевское и Служню, чтобы жители бежали сюда под стены монастыря.
— Эдак, эдак, сын мой, — поддержал архимандрит.
— А куда мы денем столько народу, — сказал Девочкин. — Их ведь и кормить надо.
— Ах, Иосиф, милая душа, потеснимся, поужмемся, поделимся.
— Надо, чтоб всю живность и обилие везли сюда, — сказал Голохвастов. — Ничего бы не оставляли врагу. И хлеб, ежели немолоченый, тоже везли.
— Успеют ли, — вздохнул Долгорукий.
— Повелеть надо, а там как получится.
— Вот вы и займитесь этим, — сказал князь, — а я пушками да ратниками.
— Скоко у нас ратных-то? — спросил архимандрит.
— Человек семьсот, святый отче.
— Достанет ли столько?
— Маловато, конечно, но где взять? Буду к пушкам крестьян ставить, ежели что.
— Верно, — согласился Девочкин, — чтоб не зазря ели хлеб.
— А с казаком этим что решим? — спросил Голохвастов. — Отпустим? Али как?
— Это пусть он сам решает, — сказал Долгорукий. — Я его держать не стану.
— А ежели он Сапеге расскажет, что тут видел?
— Не думаю. У него, чай, не две головы.
— Его поблагодарить надо, — посоветовал архимандрит. — Он и впрямь головой рискует.
В избе казак сидя дремал, прислонившись к стене, но едва стукнула дверь за князем, открыл глаза.
— Ну что, Данила, архимандрит Иоасаф велел благодарить тебя за услугу. Ты можешь ехать.
— А нельзя ли мне остаться, князь? Я б тут у-вас по хозяйству, при конях бы.
— Оставайся. Я не возражаю. Но ведь если Сапега, не дай Бог, конечно, ворвется сюда, ты понимаешь, что тебя ждет?
— Он не ворвется, Григорий Борисович, попомните мое слово.
— Дай Бог, дай Бог. Ну а все же?
— И «все же» не ворвется. Наши казаки не позволят место святое латынянам взять. Вот увидите.
— А большое войско идет на нас?
— Большое, Григорий Борисович, поболе, пожалуй, тыщ двадцати.
— М-да. Трудненько нам будет. Ну да ничего, стены наши надежные, да и святой Сергий должен пособить нам. Ему сие не в диво и не впервой.
23 сентября 1603 года Сапега и Лисовский, имея войска более 15 тысяч человек, подступили к стенам Троице-Сергиевого монастыря. Воеводы верхами поскакали вдоль крепостных стен, приискивая позиции для пушек и выбирая удобные места для штурма.
Остановились на возвышенности против главных Святых ворот. Отсюда хорошо просматривались внутренние постройки в монастыре.
— Я думаю, — заговорил Сапега, — здесь, на возвышенности, мы установим главную батарею, чтобы она била прямо по дворам города. Видите, сколько там скопилось народу. Прекрасная цель для пушек.
— Да для пушек здесь самое выгодное место, пожалуй, — согласился Лисовский. — Но без штурма нам не обойтись. А для этого надо разрушить где-то часть стены.
— Какая высота их, как вы думаете?
— Не менее четырех сажен, а вот с той стороны и все семь будет.
— Я думаю, сегодня же надо начать подкоп вот под эту башню. Мы заложим под нее несколько бочек пороху, взорвем и через пролом ворвемся в крепость. Гарнизон наверняка невелик, мы его мигом сомнем. И крепость наша.
Они стали спускаться с возвышенности, и тут их встретили жолнеры, ведшие крестьянина.
— Вот, пан воевода, этот мужик ехал к монастырю с возом необмолоченной ржи.
— Кому ты вез рожь? — спросил Сапега.
— В монастырь. Настоятель велел везти все обилие.
— Вы чувствуете, полковник, — обернулся Сапега к Лисовскому: — Они готовятся к осаде. — Приказал жолнеру: — Найдите хорунжего Будзилу, пришлите ко мне. Ты с какой деревни? — спросил мужика.
— Клементьевский я.
— Так вот, воз твой с рожью уже наш. Он зачтется тебе в тягло его величеству.
— А кони?
— И кони тоже наши.
— Но как же я без них?
— А вот так. Ты вез хлеб врагам государя. Сам виноват.
Явившемуся Будзиле Сапега приказал:
— Возьми две сотни конных и немедленно по окрестным селам, — обернувшись к мужику, спросил: — Какие тут ближние деревни?
— Клементьевская, Служны, Деулино.
— Вот покажешь все хорунжему. А ты, Иосиф, все что съестное не успели вывезти, забирай для войска. Если кто будет утаивать и прятать, вешай прямо на воротах.
— А подводы?
— Подводы тоже у них бери. И скот с птицей волоки в наш лагерь.
Когда поляки подошли к Троице, к воеводе Долгорукому-Роще прибежал сторож.
— Григорий Борисович, явились, окаянные.
Князь направился к Пятницкой башне, взобрался на самую верхнюю площадку. Оттуда хорошо было видно происходящее окрест. Он видел двух конных, скакавших вокруг крепости, догадался: воеводы. Наблюдал, как волокли пушки на гору. Вскоре появился возле князя Голохвастов.
— Обкладывают нас, Григорий Борисович.
— Вы правы, воевода, обкладывают, как медведя в берлоге. Вы там говорили с крестьянами, кто желает из них сражаться?
— Да мужчины, почитай, никто не отказывается на стену идти. Оно и понятно, я сказал, что ратники будут лучше питаться, прямо из котла. Только просят поучить, как стрелять из пищали.
— Дело нехитрое, научим. Предупредите всех, чтобы не толпились на площадях, особенно днем. Более к стенам, а лучше по кельям хорониться, когда начнется обстрел. Для нас стены — главное спасение, гарнизон-то невелик.
— Ничего. С мужиками тыщи две наберем.
— Все равно у поляков раз в десять больше будет. Надо сказать архимандриту, чтоб велел священникам в проповедях говорить, что нас окружили латыняне, люди не нашей веры.
— А зачем?
— Как зачем? Этим предупредим предательство. Среди черни обязательно сыщутся готовые перебежать к врагу. А если будут знать, что там католики, еще десять раз подумают, прежде чем переметнуться к иноверцам.
— Вы правы, Григорий Борисович.
Через полторы недели начался обстрел монастыря, ядра, как и предполагал воевода, падали на площади у Успенского собора, разбивая брошенные там телеги и возы. Люди вместе с животными, лошадьми, коровами прятались в кельях, у стен. Службы в церквах не прекращались, хотя от грохота колебались огоньки свечей, дрожали иконы. Прилетело, ударившись о стену собора и расколовшись, полое ядро, в котором было обнаружено письмо, адресованное архимандриту Иоасафу. Старец, получив эту грамоту, сказал:
— Ося милая душа, прочти, пожалуйста, я ж плохо вижу ныне.
Служка взял ее, расправил на столе, разгладил ладонями, начал читать:
— Вы беззаконники, презрели жалованные милости и ласку царя Ивана Васильевича…
— Ох, и наласкал же он нас, — вздохнул Иоасаф. — А ты читай, Ося, читай.
— …забыли сына его, а князю Василию Шуйскому доброходствуете и велите в городе Троицком воинство и народ весь стоять против государя царя Дмитрия Ивановича и его позорить и псовать неподобно, и царицу Марину Юрьевну, также и нас. И мы тебе, архимандрит Иоасаф, свидетельствуем и пишем словом царским, запрети попам и прочим монахам, чтобы они не учили воинство не покоряться царю Дмитрию.
Селевин Осип кончил чтение, взглянул на владыку.
— Все? — спросил Иоасаф.
— Все, святый отче.
— Очини-ка, Ося, перышко, да садись к бумаге, кажна грамота ответа просит. Ответим.
Селевин старательно очинил новое гусиное перо, умакнул в чернильницу, опробовал на краешке полученной грамоты. Придвинул чистый лист бумаги.
— Я готов, владыка, сказывай.
— Пиши, Ося. Да ведает ваше темное державство, что напрасно прельщаете Христово стадо православных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму больше света и преложить ложь на истину. Как же нам оставить вечную святую истинную свою христианскую веру греческого закона и покориться новым еретическим законам, которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? Никак не можно свершить подобного святотатства. Написал?