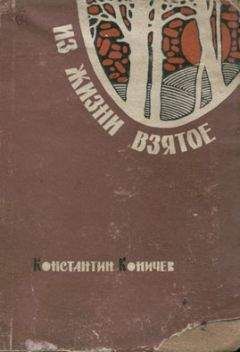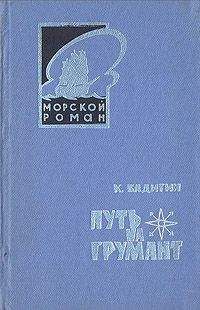— Ух как ты меня, парень, оконфузил. Не думал, что ты так скоро да искусно богатыря смастеришь. Ну, да ладно, вот ты уйдешь в Питер, я тоже не засижусь у Бажениных на верфи, посмотрим тогда, кто ему будет корабли статуями украшать, не всякий это может…
— Найдутся мастера, не велика премудрость, — возразил Федот, — помучатся да научатся. А ты куда собираешься, Никита, чем тебе не житье у Баженина?
— Не жалуюсь, а хочу лучшего достичь. Есть думка в Соломбалу на морскую военную службу поступить: харч, одежа, обутка — все готовое, ни заботы, ни печали. Только знай службу. Поплаваю-поплаваю да где-нибудь на чужой стороне и застряну на постоянном житье…
— Не худо задумано, — согласился Федот, — было бы вольное тяготение к службе — толк будет. А как отец, не противится?
— Благословляет.
— И то добро.
Они поднялись на берег. Никита весла сунул в крапиву, чтобы ребятишки не нашли и не уехали кататься на чужой, баженинской лодке.
— Ты когда уходить с дому собираешься? — спросил Никита.
— Не скоро, по зимнему первопутку.
— Ну, я раньше твоего соберусь на морскую службу. Вот увидишь. Я и прошение подал в Адмиралтейскую коллегию в Архангельск, и за меня там слово заложено штурманом с военного фрегата. До осени уберусь отсель… Помалкивай только, чтобы Баженин не дознался и никаких препон не мог мне учинить. А хочется, парень, на белый свет взглянуть. А то что же выходит? Гукоры строим, а плавает на них кто-то другой…
Вскоре после этого разговора Дудина затребовали в Соломбалу на морскую службу. Обрадован он был этим известием, загулял как новобранец флотский. Ребятам холмогорским, матигорским целую кадушку пива выпоил. Федота в гости позвал и на прощание тому, расщедрившись, три книги подарил в кожаных переплетах с застежками:
— На, Федот, мне эти книги не в коня корм, а тебе авось сгодятся…
И были те книги по соизволению самого Петра Первого печатаны, хранились они у холмогорского попа. Одна из них называлась: «Лексикон треязычный, сиречь Речений славянских, эллино-греческих и латинских сокровище». Подавая эту книгу Федоту, Никита смахнул с нее тряпкой пыль, сказал:
— В Питере, как в Вавилоне, на всяких языках люди говорят. Должна тебе от этой книги польза быть?
— Должна. Спасибо, Никита…
— А вот эта называется «Приклады како пишутся комплементы… поздравительные и сожалетельные, и иные». Сиречь письмовник. По сей книге ты можешь и самому Михайле Ломоносову письмо сочинить, и хоть князю, и государыне самой. Тут есть сказано, что и как пишется в благодарение за доброе угощение, есть и просительное писание к женскому полу, и прочая, прочая… Я по сей книжице промеморию состряпал на Адмиралтейство, чтобы на корабль приняли. И вот еще книга, такой и в Архангельске нет. Покойный мой дядюшка, холмогорский поп, говаривал, что этакая книга еще есть у каргопольского воеводы — «Правда воли монаршей, во определении наследника державы своей». По писанию этой книги выходит, что бывают времена, когда народ сам себе властелина изобрать может, а не по наследству царя либо царицу насаждать. Глянь-ко на сию страницу, сказано тут: «Всем известно, что не един во всем мире образ есть высочайшего правительства; но инде главные всего отечества дела управляются согласием всех жителей, яковое правительство было прежде у многих народов эллинских и долго пребывало у римлян. А в наши времена есть такое правительство в Венеции, Голландии и в Польше, и сие нарицается Димократия, то есть народодержавство…»
— Это вроде бы как новгородское вече? — спросил Федот Дудина.
— Шибко смахивает… — приподняв указательный палец, торжественно и многозначительно произнес Дудин. — Вот какую я тебе дарствую книгу — в назидание, вроде запретную. Хоть и по изволению Петра она печатана, а покойный дядя говаривал, что по указу царицы сия книга подлежала уничтожению. Но он сберег ее и батьке моему, умирая, подарил. Прочитай, да не раз, и береги. А ежели нужда прибьет, то в Питере такие книги всегда в цене. Продашь.
— Ни за что! Буду беречь и пользоваться! — Сияющий Федот прижал к груди все три книги, потом положил их на стол и, обняв Никиту, поцеловал его: — Спасибо, уважил. Век помнить буду. Счастливо тебе, Никита. Служить да в службе отличаться. Как знать, в Петербурхе, может, дороги наши и сойдутся.
Федот Шубной проводил Дудина до Холмогор, а оттуда Никита отправился в Архангельск службу служить.
На первый раз ненадолго расстались земляки Федот и Никита. До того как отправиться в Петербург, Федот Шубной собрался той осенью в Архангельск на Маргаритинскую ярмарку. Двое старших братьев его, Кузьма и Яков, перед ярмаркой стерляди напромышляли пудов десять и в живом виде в пруду сохранили; да костяных изделий — гребешков, уховерток, игольников и табакерок Федот успел порядочно наделать — было чем поторговать братьям Шубным.
Архангельск в ту пору, — когда начал процветать Петербург, — стал понемногу хиреть, однако в Маргаритинскую ярмарку из разных держав прибыло на торги более ста судов — английских, голландских и гамбургских и прочих земель. Да много приезжего торгового и всякого люда собралось на ярмарку из Вологодчины, с Вычегды и Сухоны, с Ваги и Пинеги и далеких приуральских строгановских вотчин. Ярмарка была продолжительная, веселая, привлекательная для всех продающих и покупающих, даже для гулящих ротозеев, у которых всего денежного состояния хватит на ковш сбитня и на печатный пинежский пряник; и те, довольные зрелищем ярмарки, ходили нарядные и оживленные, везде совали свой нос и не скрывали восхищения и зависти перед обилием недоступных им по цене заморских товаров.
Федот Шубной по-своему не был обижен судьбой-лиходейкой: деньжата у него водились и от заработка у Бажениных на верфи, и от косторезного ремесла. Но знал он цену копейке и потому не решался бросать деньги на ветер, на пропой, на гостинцы или на те же норвежские и немецкие безделушки. Но пришлось и ему малость расщедриться и угостить за свой счет встретившегося у Гостиного двора Никиту Дудина. Тот уже был одет по всей надлежащей форме: серый кафтан застегнут на все до блеска начищенные пуговицы, на ногах чулки, башмаки с застежками, штаны холщовые серые, какие полагаются заправскому матросу. Увидев Федота, Дудин весело заулыбался, обрадовался земляку.
— Ну как служба? — спросил Федот.
— Да, слава богу, жалованья копейка в день и харч готовый.
— Ого! Копейка! Глядишь, сто лет послужишь — богачом вернешься.
— Не смейся, не век так. Не сразу в капитаны. Помешкать малость доведется.
— А ты поторопись.
— Ох, Федот, не ускакать быстро мне. Канительно дело, но взялся за гуж, выдюжу, не сдамся…
Шубной пригласил Дудина в харчевицу, в подвал, заставленный бочками, на Большом Соломбальском остроке. В подвале пахло морской рыбой, свежей и соленой, пряностями и горячими промасленными шаньгами. Под потолком дым табачный, на полу сырость от хмельных и освежающих напитков. Тут сидели на широких скамьях за длинными столами поморы-зверобои, приезжие гости — немцы и сторожевые солдаты из Новодвинской крепости, пущенные по увольнительным ярлыкам на отгул в ярмарочные дни. Шубной и Дудин присели к уголку стола. Федот тряхнул мошной. Звякнули гроши и алтыны в кожаном мешочке. Раскрутив шнур, Федот засунул руку в мошну и, достав горсть медяков, сказал:
— Тут, парень, не последние. Не будем скупиться: кто знает, увидимся ли впредь?..
Но пили они мало, зная меру и не теряя рассудка. Дудин сидел, облокотившись на столешницу, и уныло рассказывал:
— Чтоб, батенька, до кортика с портупеей дослужиться, много придется башмаков износить, ох много. Пока нас обучают артикулам с деревянным ружьем обращаться да малость барабанному искусству. А дальше — больше, все мучение впереди: и весь регламент морской назубок, как «Отче наш», знать заставят. И как в случае надобности караулом командовать, и все-все корабельные распоряжения знать и уметь призвести на деле в походе и гавани, и как пушками действовать, и как по компасу и звездам путь прокладывать, и как в бурю и в штиль парусами верховодить, чтоб все было к месту, без помех и ущерба… Да, брат, нелегкая службица предстоит. Одначе не отчаиваюсь, и на себя, на свою силу и смекалку уповаю. А случись война на суше и на море, тут, брат, на морской службе придется нам, матросам, хлебнуть соленого до слез…
Федот Шубной хотел сказать дружеское, сочувственное слово приятелю, но не успел и рта раскрыть, как за тем же столом, пристукнув тяжелой глиняной кружкой по столешнице, поднялся во весь рост бородатый мезенский зверобой и, вмешиваясь в разговор, сказал:
— Война, война, чего испугался! А с кем войне-то быть?
— Может, со шведом, не то с англичанкой, норвеги — те, ясно, народ не драчливый, — понимающе ответил Дудин.