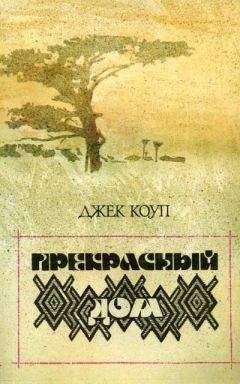— У тебя плохой вид, Том. К тому же ты ранен.
— Да, я был ранен в руку, но все уже почти прошло.
Она сунула в печь новую порцию только что поднявшихся хлебов и вернулась к столу раскрасневшаяся, с блестящими глазами.
— Ты уезжаешь? — удивленно спросила она.
— Я должен быть утром в Ренсбергс Дрифте.
— Но ты не сумеешь добраться туда до утра.
— На свежей лошади добрался бы. Попытаюсь достать лошадь в Раштон Грейндже.
— Маргарет будет огорчена, что ты ее не застал.
— Передайте ей от меня привет, самый горячий привет.
Старушка подошла к двери, пристально глядя на него.
— Что-нибудь случилось, мой мальчик?
— Нет. Теперь благодаря вам, миссис О’Нейл, я чувствую себя гораздо лучше.
— Я говорю не об этом.
— Я расскажу вам все… Я хочу рассказать вам и Маргарет. Но в другой раз.
Она расцеловала его в обе щеки и подала ему фуражку.
— Маргарет будет очень огорчена, — повторила она.
Тела двух женщин, бабушки и жены Коломба, были зашиты в одеяла. Колени их были согнуты, головы опущены на грудь; волосы были сбриты и зашиты вместе с ними, а плод, который мог бы быть мальчиком — первенцем Коломба, покоился у груди матери, завернутый в кусок ткани. Прислоненные спинами к опорным столбам, они сидели в ожидании погребения, которое должно было произойти в вечерних сумерках. В краале некому было позаботиться о том, чтобы их похоронили по христианскому обычаю, да это и не имело теперь значения. Крест, принадлежавший Коко, положат рядом с ней в могилу, вот и все. Смерть смела все различия, и эти две женщины, сидевшие в позе утробного плода, «возвращались туда, откуда пришли». Оплакивая их смерть, все женщины и дети крааля скорбно причитали тихими голосами.
При свете огня и бледном утреннем свете Том смотрел на двух покойниц; за все время этой неравной борьбы он не видел более яркого воплощения смерти. Он пошел в большую хижину Но-Ингиля. Старик, закутавшись в меховое одеяло, сидел у огня. Он велел своей младшей жене поднять его и по всем правилам приветствовал Тома.
— Тот, Перед Кем Отступает Преступник, — хриплым голосом сказал он.
Том протянул ему флягу с бренди. Старик взял ее дрожащими руками и с достоинством отставил в сторону.
— Мой скот был возвращен мне, и дом мой продолжает стоять, — сказал он.
Он знал, что нет таких слов, какими он мог бы поблагодарить Тома, и что вполне достаточно перечислить факты.
— Я не знаю всего, что было сделано, Том. Я пошлю во все хижины, узнаю и скажу тебе.
— Хорошо. Отдыхай и поправляйся, отец моего отца.
Том уже собирался уйти, но старик знаком остановил его. Он долго смотрел на него, а затем опустил свой мрачный взгляд.
— Мне рассказали, что ты сделал, и одна вещь не дает мне покоя, Том. Ты хотел убить Удви?
— Да, я хотел убить его.
— И он испугался?
Том ничего не ответил, и старик облегченно вздохнул.
— Да, — медленно сказал он, — нехорошо, что человеку приходится убивать такую тварь.
Коломб узнал печальные новости от воинов в лесу Квидени. В ту же ночь он вместе со своим отцом Офени и маленьким проповедником Давидом проскользнул за кордон белых. В долине вблизи Уиткранца царили холод и тишина, в воздухе пахло гарью от сожженных хижин, и иногда в кустах отчаянно лаяла собака. Коко и Люси похоронили за хижинами, и могилы сровняли с землей, чтобы белые не могли их обнаружить. Узнав, кто пришел, женщины снова начали свой плач. Многие родственники этой семьи, которых карательная экспедиция оставила без крова, укрылись в хижинах Но-Ингиля. Медленно подходили они поближе, когда Давид служил панихиду, а Коломб, внимая молитве, говорил «аминь», хотя сердце его разрывалось от горя, а по лицу струились слезы. Вслед за Давидом он посыпал могилы землей и пеплом, а затем и Офени робко вышел вперед и сделал то же, что его сын.
Коломб обложил обе могилы мелкими камешками, а посредине насыпал земляной холмик. Из ствола акации он вырубил две крепкие дощечки и, обтесав топором одну сторону, складным ножом вырезал на них имена «Мария» и «Люси». Под именами он вырезал кресты. Потом вкопал эти дощечки у изголовья могил, чтобы всякий, кто пожелает, мог их увидеть. Ни один колдун не выроет трупы, чтобы навлечь беду на крааль. Врагами его народа были не колдуны и не чародеи, а белое правительство, но его он не боялся. Он пришел в крааль, оставив винтовку и патронташ в лагере, и у него все время было ощущение, что ему чего-то не хватает, как будто он никогда уже не будет чувствовать себя легко без доброй винтовки за спиной. Они пробыли в краале еще день, и Коломб наказал женщинам, чтобы они требовали съестных припасов на полицейских заставах. Им, конечно, ничего не дадут, но они будут раздражать и отвлекать белых полицейских, и, поскольку они будут ходить по дорогам и тропинкам большими группами, за ними нелегко будет следить. Если же они будут прятаться, явится полиция, и солдаты снова оберут их.
Из кустарника и с холмов пришли юноши, чтобы взглянуть на человека, который участвовал во многих сражениях с белыми солдатами и остался живым и невредимым. Они запоминали его слова и повторяли их вновь и вновь, искусно подражая его голосу и манере речи. Они подражали даже шаркающей походке, которая появлялась у него, когда он надевал башмаки. Юноши мечтали стать, как и он, христианами и поднять оружие против белых.
— Вы можете креститься уже сейчас, — сказал Коломб. — Учитель Давид здесь, он обучит вас молитвам. Но час войны для вас еще не пробил. Вы должны ненавидеть Белый Дом, но старайтесь учиться у белых. Учитесь на ошибках, которые делали мы, старшие. Слушайте Внимательно мои слова. Это — последняя война с ассагаями, это — последняя война с вождями и знахарями, это — последняя война, в которой наши боевые кличи выдают нас с головой, как детей, играющих в руслах высохших рек.
— Хаву! — воскликнули юноши.
— Вы слышали?
— Мы слышали, отец.
— Вы забудете, — сказал он нетерпеливо. — Но Черный Дом всему этому научится. Мы уже научились работать по-новому: я умею ковать и сгибать горячую сталь.
Он говорил, не задумываясь, бросая им первые слова, какие приходили в голову. Теперь он остановился, глядя на крыши хижин, где уже высохли на солнце надутые пузыри баранов, принесенных в жертву его дедом.
— Довольно. Я сказал все, — хрипло закончил он.
В сердце своем он лелеял мечту о новой черной армии, армии таких юношей, как эти, но возмужавших, сумевших впитать в себя все мужество и выносливость их славных предков, армии с новыми идеями, оружием и командирами. Его народ незачем учить терпеливо, без единого стона переносить голод, лишения и даже смерть. Но его нужно научить более тонким и более сложным вещам, которые понять так же трудно, как ночной кошмар человека, заблудившегося в дороге. Его нужно учить многому, помимо искусства сражаться: умению управлять и верить в вождей, не ограничиваясь узкими интересами того или иного племени.
Когда юноши отдали Коломбу дань уважения, назвав его отцом, он подумал о Люси и о сыне, которого убили в ее утробе, о сыне, который с высоко поднятой головой шествовал в его мечтах о будущих поколениях. Теперь это будет не его сын, а сын другого мужчины и другой женщины. Но у него, конечно, будет такое же лицо: большой рот, белые зубы, маленькие плоские уши, благородный лоб и темные спокойные глаза, которые никогда не вспыхнут от бессильной ярости и от унижения.
Его душили непролитые слезы и сердечная боль, и юноши, увидев его искаженное страданием лицо, бесшумно удалились. Коломб встал и в последний раз подошел к могилам.
«Это сделал Удви, — думал он. — Удви убил вас. Кто этот Удви? Нет, это не один человек, это — Белый Дом».
Затем он вспомнил, что рассказывали ему женщины, юноши и его дед о Томе. Слезы потекли по его лицу, обжигая ему веки и щеки, и казалось, что слезам не будет конца. Он не всхлипывал, не издавал ни звука. Неужели сын Тома станет еще безжалостнее попирать Черный Дом, разрушая дух его обитателей так же, как и их тела? Разве нет в этом белом человеке чего-то такого, что всегда жаждет братства и не успокоится до тех пор, пока люди не протянут друг другу руки? Но в таком случае виною всему не Черный и не Белый Дом, а что-то другое, пока еще неразличимое.
Давид известил о случившемся епископа Зингели в поселке Виктория. Коломб считал, что Давид должен сам тайно повидать мисс О’Нейл и мисс Брокенша и рассказать им о здешних делах, чтобы поднять народ в Англии, самого короля и вообще всех, кого удастся, на защиту зулусов. Давид на это ответил:
— Правда будет известна. Кто хочет ее услышать, услышит.
Он считал, что его место в рядах импи; поэтому, когда настала ночь, он вместе с Коломбом и Офени двинулся в путь, чтобы снова присоединиться к повстанцам.