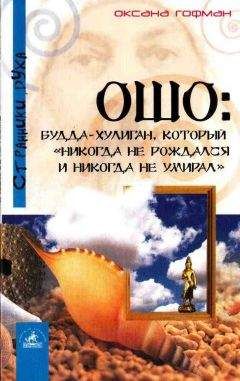по земле, чтоб всяк на ней имел возможность испить из него, это вконец разгневало Мару, он уже не сдерживался и обрушил на сущее ненависть, но то, лишь слегка поколебавшись, очень быстро обрело прежнюю устойчивость. А Мара исчез, словно бы и не было его вовсе, а было что-то другое, скорее, тень его…
Татхагата поднялся с земли, долго смотрел на дерево Бодхи, стараясь запомнить и малую сухую ветку, колеблемую ветром, с четко выписанным узором на листе, способным обозначать все, что пожелал бы смотрящий снизу, и старый, заматерелый, еще крепкий ствол, защищенный толстой серой корой, которая местами потрескалась. Татхагата закрыл глаза, созерцая в себе, и вот уже и он сам был еще и старым деревом, оно жило в существе его, хотя и отличалось малостью в сравнении со своим земным отображением. Но вот Татхагата открыл глаза и пошел… Деревья, прежде нависавшие стеной, которую нельзя было отодвинуть, теперь охотно пропустили Просветленного, и глухие заболотины тут же усыхали, едва нога его ступала на сырое место. Над головой Татхагаты кружили сребротелые птицы, и нельзя было сказать, что это за птицы, точно бы неземные, а принадлежащие иным мирам и отпущены оттуда по случаю появления Будды. Случалось, звери, выбежав из лесу, зачарованно смотрели на Просветленного, и не скоро еще страгивались с места. Однажды и Татхагата остановился, он вдруг подумал о страых мудрецах Аллари и Уддалаки, которые были в свое время близки ему.
— Хорошо бы встретиться с ними, — сказал он. — И поведать о Просветлении…
Но знал, что встреча не возможна, бывшее ныне в нем и осветившее отвечало, что их уже нет на земле, они поменяли форму.
— Ну, что ж, — сказал Татхагата. — Я все равно пойду в долину, где они жили. Я погляжу на дела, освященные их духом, и на людей, что были рядом, когда они жили… Я сделаю так потому, что это надобно тем, кто увидит лик мой.
И он побывал в той долине, она стала еще просторней и солнечней, точно бы от нее излился свет души. Он шел по земле, и те, кто встречался с ним, замечали тихий и спокойный, словно бы неземной восторг в его лице, и невольно останавливались и долго, с восхищением, как бы перешедшим от Татхагаты, смотрели вослед ему. Однажды он повстречал старого голого человека, тот словно бы не догадывался о своей наготе, да и люди почти не обращали на нее внимания, она была как бы частью земли, принадлежала ей и ею же облагораживалась, вот упади голый человек на землю и сразу же сделается неприметен, уподоблен ей, горемычной, и люди будут идти мимо и, хотя обратят внимание на черный бугорок, все ж пройдут, не останавливаясь, спеша по своим делам. И этот человек был удивлен, заметив в лице у Татхагаты божественный свет. Свет рассыпался окрест и все менял в природе, и она уже не была так мрачна, и, чувствуя, как в нем что-то вдруг воссияло, тихое и сладостное, умиротворяющее, блаженство и покой сулящее, спросил:
— Откуда твоя радость, которая передается людям, зверям, природе, всему вокруг легшему?..
Аскет замолчал, было ощущение, что ему не хочется этого знать, на сердце спокойно и несуетно, ах, сколько же он стремился к этому, но так и не отыскал дороги к истине, которая одна способна привести к блаженству.
— Я победил Мару и тех, кто подчинился ему, — сказал Татхагата. — И стал свободен в своих намерениях и поступках, и в душе сделалось свободно от загрязнений. Я все отринул, и желания теперь не властны надо мной. Я поднялся над мирами, и дух мой пребывает в разных частях света. Я вижу людей, которые страдают и не знают покоя. Я иду к ним с убеждением, что они поверят моему слову и примут из моих рук истину. Никто не помогал мне, я все обрел сам. Кого я назову учителем?.. Я провидел то, к чему стремились многие, и обрел Просветление. Я направляюсь в Бенарес и хочу, чтобы люди услышали меня и пришли в царство Правды.
— Так ты святой Джинна?..
— Да… Я стал архатом, но это не значит, что я так и пребуду вознесшимся над людьми. Нет… Я старший среди них благодаря тому, что мне открылась истина. Я отличаюсь от людского племени не больше, чем птенец, вылупившийся первым, отличается от тех, кто появился на свет позже.
Татхагата попрощался с аскетом и пошел дальше, а скоро он был в городе, ходил от дома к дому, скорбно величественный и усталый, однако ж усталость как бы не замечалась, он весь светился, и было свечение спокойное и уверенное. В руке он держал чашу для подаяний, изредка протягивал ее людям, и те не отказывали в милостыне, всяк встречавший думал не о ней, а о человеке с чашей для подаяний, было в нем что-то миру сему не принадлежащее, что-то от пространства, нависшего над землей, огромного и загадочного.
Татхагата подошел к парку Ришипатана, где, спрятавшись от солнца под разлапистыми ветвями жамбу, сидели Сарипутта и Магаллана, Коссана и Упали, Ананда. Они почувствовали его приближение и забеспокоились, вдруг иной из них, сердясь на Возвышенного, говорил со страстью в голосе, про которую не желал бы знать, но она утесняла все в нем и проступала, подобно краске на ткани:
— Мы не приветим отступившего от аскезы и даже при виде его не поднимемся с земли.
— Да, да… Так!.. — охотно соглашался другой. — И чашу с подаянием не возьмем из рук уклонившегося от тропы тапасьев.
— И не подадим воды для омовения ног! — воскликнул третий, забыв о своем призвании в миру, которое лишь тогда и возвеличивало, если пребывало в спокойствии.
Но по мере того, как Татхагата приближался к ним, настроение тапасьев менялось, они начинали чувствовать себя подобно птицам, не по своей воле оказавшемся в клетке, возможно, и это стерпелось бы, да вдруг под донцем клетки зажегся огонь, и делался все жарче. А когда стало невмоготу терпеть пытку огнем, тапасьи, все пятеро, поднялись с земли и заспешили навстречу Татхагате. Один из них взял у него чашу с подаянием, склонившись пред Сиятельным, второй предложил место под деревом, третий побежал за водой для омовения ног Просветленного.
Они не хотели бы этого, но что-то, исходящее от Татхагаты, от желтого рубища, которое было на нем, от деревянной чаши, заставляло их поступать противно недавнему намерению, они изредка обращались к нему, и их обращение было мягкое и почтительное, все же же Татхагата сказал с