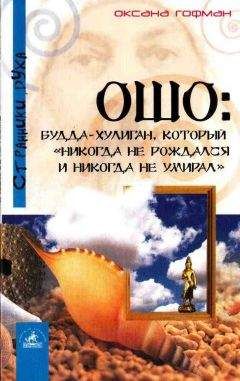помыслах, отвратные от света и лишь во тьме пребывания своего ищущие удовлетворения слабым страстям. Он провидел это, и лицо его было сурово и непроницаемо, понимал, грядущее к неприятию сущего свершению зла отпущено людям за грехи их и ничем, никакими делами не быть им избыту. И скорбел тою высшей, от небесных сил даденной скорбью, которую нельзя прочесть ни на чьем лице, а только совершенно случайно, коль будет на то воля небес, можно ощутить, хотя и не знать, откуда она, отчего вдруг коснулась души и угаснет ли скоро или станет еще долго беспокоить сердце и увлекать его в тягостное томление?..
Просветленный знал, что Девадатта подтолкнул Ажатасатру, а тот и раньше ощущал неприязнь к отцу, а теперь и вовсе возненавидел его. Когда же стало невмоготу скрывать ненависть, все в душе ломавшую, он поднял на отца меч, и — взошел на царский престол. Те чувства, что захлестывали его, были обыкновенные человеческие чувства и не могли возвысить нового государя или опустить во мрак невежества. Впрочем, случалось, они рождали в нем убежденность, что поступил правильно, до срока взошедши на престол, но бывало, наоборот, истачивали ее, и тогда отцеубийца становился слаб и безволен, и никто не мог утешить его, лишь Девадатта, он отыскивал успокаивающие слова. И это было странно. Девадатта не старался взять на себя роль утешителя, а просто говорил о борьбе меж людьми, о том, что нередко и доброе дело укрепляется злом.
Девадатта не имел ничего против Бимбисару, но к нему проявлял симпатию Татхагата, и этого было достаточно, чтобы старый царь стал неприятен монаху. Вот он и настраивал против него молодого честолюбивого царевича. Он мечтал увидеть на лице у Просветленного тень смущения, а еще лучше — растерянности, оттого и такое в нем непотребство, было неприятно спокойствие, исходившее от Татхагаты. В душе все точно бы обмирало, когда он смотрел на Просветленного, вдруг, точно бы от камня, на котором стоял, переминаясь с ноги на ногу, исхлестывалась слабость и проникала в тело. В нем жила зависть к удачливости сына царя сакиев. Вначале неприметная, подобная едва светящейся искорке, погасить которую ничего не стоило, дунь — и нет ее, со временем она усиливалась, уплотнялась. Для этого не требовалось прилагать каких-то усилий: душа Девадатты подпала под власть Мары, подчинилась ему. Она не желала находиться в одиночестве и определила себя в соседстве с Богом разрушения.
— Я не был хуже Сидхартхи, — нередко говорил Девадатта. — Одно нас отличало, что он родился в царской семье, а я в семье кшатрия. Я уже тогда спрашивал у себя: почему ему все, а мне ничего?.. Почему?.. И вот он стал Татхагатой, а я просто монах, приближенный им к себе, и я опять спрашиваю о том же и не умею ответить. И досада мучает меня.
Знал ли про это Татхагата? Конечно, знал. Сделавшись Просветленным и угадывая в пространстве ли, в душе ли, он отмечал смуту, что жила в Девадатте, но молчал, да и не мог ничего сказать, то, что рождалось в нем, не принадлежало ему, а сущему, и малость, которая вдруг отмечалась им, утекала и растворялась, слившись с другими малостями, что все не исчезнут…
Татхагата пребывал в дивном саду близ города Сравасати, где росли розы иерехона и черные тюльпаны, тяжелые вековые смоковницы, когда до него дошла весть о том, что царь Магады выступил с войском против своего соседа царя Кошалы. Отряды, имеющие не только боевые колесницы и отважных всадников, а и обученных военному искусству слонов, быстро сближались и уже ничего не могло помешать столкновению враждующих сил. И — столкновение произошло. Татхагата закрыл глаза и увидел, как воины, презрев все в себе, противное духу противоборства, не приемлющее насилия, ринулись друг на друга, обнажив мечи и яростно выкрикивая что-то… Они уже не походили на живые существа, а на богоотступное нечто, рождающее зло, и не скажешь о них, что они хранили в сердцах ко благу склоняющее, осиянное небом, сделались темны и преступны… И наступил момент, когда одна из враждующих сторон начала одолевать другую, и вот царь Кошалы оказался в плену. Ажатасатру победил. Но тут он вспомнил о Стрестхи, богатом ваисии, тот дал ему денег и помог вооружить отряды.
Царь Магады позвал к себе Стрестхи и, указывая на плененного властителя Кошалы, спросил:
— Как поступить с ним?..
Стрестхи, ступивший на путь Дхаммы, сказал твердо:
— Отпусти… И коснется лба твоего свет истины!
Ажатасатру согласился и в благодарность за помощь в войне отдал Стрестхи свое царство на семь дней и ночей.
— Властвуй! — сказал он. — И да будет исполняема воля твоя, о, преклонившийся к добру и в нем узривший освобождение для человека! И всяк на моей земле да станет послушен тебе в это время.
И Стрестхи слушали, волю и дух слова его… Многие жители Магады потянулись к учению Татхагаты. Дхамма коснулась и самого Ажатасатру и смущение отметилось в лице у него. Татхагата провидел, что царь Магады, придет срок, примет учение и воздвигнет город Патилапутру, и все жители узрят в небе Колесо благого Закона и отвратятся от зла, и сострадание и милосердие к слабому, заблудшему во тьме жизни, сделается единственно надобным им.
Татхагата недолго пробыл в Сравасате, что-то сдвинуло его с места, хотя вначале он предполагал задержаться в городе, где все благоволило ему, казалось, сама природа, а не только люди и птицы, звери, прислушивалась к его голосу и находила в мягко и напевно звучащих словах отраду. Природа как бы оживала и угадывалась не такой никлой и вялой, точно бы просыпалась ото сна и уже не съеживалась от горячего солнца и от сильного ветра. Татхагата вышел из города, сопровождаемый учениками, число которых росло, хотя он и не всех брал с собой, немало их оставалось по слову его, чтобы создать общину и посвятить себя служению истине, спустя время он очутился в горном селении и был приглашен крестьянином… Он сделался его гостем, в ветхом жилище ему отвели почетное место, он заговорил с крестьянином про то, что обыденно и ни к чему не подвигает, про мирскую суету, однако ж знал, что и эта беседа со слабым, затерянным в миру человеком, до которого в сущности никому нет дела, он сам по себе, тоже нужна и не только им двоим, а и другим людям. А потом Благословенный, отойдя мыслями от суеты, легко подымаемой и невесть куда уносимой, во