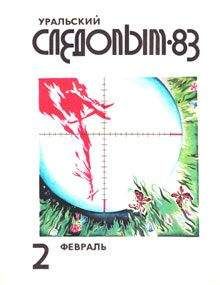У Велика от обиды задрожали губы, но он смолчал: что тут скажешь, Алешка прав. И когда вскоре лошадь остановилась, он сел на край борозды, не зная, что делать. Может, и правда, махнуть на все рукой и уехать? Упрекнуть его не за что, пахари подтвердят… Проклятая животина! Растоптала своими грязными копытами его радость и общую их с Заряном надежду на то, что в колхозе станет работником больше. И вообще — что это такое?..
Его душила ненависть. Сцепив зубы, сжав в кулаке кнутовище, Велик подошел к лошади, взялся за обороть и, хрипло выдыхая: — Ах ты змея! Ах ты сволочь! Ах ты фашистка! — принялся колотить ее кнутовищем по шее, по морде, по ушам, по губам, по чем попало, без разбору.
Она пятилась, отворачивала голову, скалила зубы, но он бил и бил ее в каком-то бешеном ослеплении. Тогда она рванулась вперед, чуть не сбив его. Велик отскочил в сторону, взялся за ручки, вонзил плуг в землю. Он еще не верил, что победил, но уже понял, что на пути к победе и надо бороться с этой симулянткой до последнего. Нельзя уступать!
Как-то неестественно выгнувшись, боком, Лихая тянула плуг торопливо и натужно, как будто из последних сил. Чего это она так? — с беспокойством подумал Велик, остывая. Злится, наверно, психует. Ну да, а как же, ведь он бил со всей руки, не жалея, по самым больным местам. Может, глаз выбил, оттого и скособочилась? Надо бы глянуть, а что, если и вправду глаз?.. Но он боялся остановить ее. Нет уж, пускай тянет, пока тянет.
А как я ее бил! — вдруг накатила жалость. Как фашист, даже не подумал ни разу, что ей больно. А может вот, даже покалечил. Нельзя же свою злость срывать на живом. Больно же!.. Но ведь если бы я ее не бил, она не стронулась с места, пришлось бы ехать домой. Колхозу нужна моя работа, мне она нравится, но вот, видите ли, какой-то кляче вздумалось меня подмять, чтоб самой погонять лодыря. Нет, уступать нельзя, иначе ничего не добьешься.
Вдруг лошадь опять остановилась. У Велика екнуло сердце: снова здорово! Ни вожжи, ни кнут никакого действия не оказывали. Закипая, он пошел к кобыле. Едва очутился перед нею, еще и руку не успел поднять, Лихая попятилась, беспокойно и виновато заморгала.
— Ага, битой быть неохота. Так чего ж заставляешь? Мне, думаешь, радость большая — лютовать над тобою? Ну, давай по-хорошему, по-людски, — он погладил ее по храпу. — Я от тебя не отступлюсь, так и знай. Прислушайся к моему совету: не отлынивай от работы, до добра это не доведет.
Велик оглаживал ее шею, морду, увещевающе приговаривал. Кобыла шевелила ушами, прикрывала глаза, переминалась. Весь ее вид говорил о внимании и согласии. Он пошел к плугу, но едва сделал один шаг, она тронулась с места и пошла боком, так неестественно и при этом так смотрела на него, как будто подсказывала. Велик подошел и приподнял хомут. Так и есть: у Лихой было сбито плечо. Круглая ранка величиной с пятак сочилась кровью. На хомуте виднелось такой же величины кровавое пятно.
Вот, брат, как. Не торопись пускать в ход кулаки. Сперва погляди — может, помощь требуется.
Велик нарвал травы, отодрал от порток две заплатки — ничего, можно посверкать голыми коленками, в поле — не в деревне. Смастерил две подушечки, с помощью лемеха отпилил от вожжей кусок веревки, расплел и свил тонкие оборки, которыми привязал подушечки к хомуту так, что ранка оказалась между ними. Дело знакомое.
— Ну вот и ладно, — сказал он, закончив. — Через недельку и следа не останется, увидишь.
Лихая ткнулась ему храпом в плечо. Что ни говори, а лошади — народ умный, соображают что к чему.
На обед расположились в котловине, примерно в полукилометре от места работы. На дне котловины плескалось небольшое озерко. На пологих затравенелых склонах кое-где росли одиночные кусты.
Лошадей пустили пастись, а сами разбрелись по разным кустам. Велика это не удивило: он и сам, еще когда ехали сюда, решил в компанию не соваться, чтоб не краснеть за свой обед. Видно, и другим не хотелось выставлять напоказ нищету.
Велик прилег под кустом, достал из кармана кусок черной, как уголь, и твердой, как камень, лепешки и пучок дикого чеснока. Лепешка была испечена из желудевой муки. Они с Манюшкой перепробовали желуди в самых разных видах: жарили их прямо в скорлупе на куске жести, пекли блины и лепешки, варили болтушку. Эти «разносолы» давали сытость, но сильно горчили. Правда, к жареным желудям это не относилось, они были даже вкусны. Велик понял: с такой едой с голоду не помрешь, однако все время будешь тосковать по настоящему харчу, по той же картошке. Понял и смирился, поскольку ничего другого пока не предвиделось.
Увидев приближавшуюся к нему Наталью, он торопливо спрятал в карман недоеденную лепешку и продолжал лениво похрустывать чесноком, показывая, что пообедал, а теперь вот жует травку так, от нечего делать. Наталья положила перед ним лист конского щавеля, а на нем — две крупные картошины и, ни слова не сказав, удалилась. Когда она наклонилась, Велик искоса мельком глянул в ее лицо и уловил, как пробежала по нему какая-то скорбно-виноватая тень — то ли усмешка, то ли гримаса. И в удаляющейся фигуре ее было что-то неловкое, стесненное, неуклюжее, как будто она чувствовала на себе чужие пристальные взгляды.
От молодой картошки исходил такой сладкий аромат, что у Велика все внутри содрогнулось и застыло в ожидании. Он откусывал маленькие кусочки и не ел, а сосал, как конфетку-леденец в райские довоенные времена. Это действительно была настоящая живая еда, после которой, кажется, кровь быстрее побежала по жилам и тело налилось бодрой силой. А после желудевой еды он всегда чувствовал себя вялым и подавленным.
Закончив обед, пахари собрались вместе у Алешкиного куста. Алешка лежал вверх лицом, подложив руки под голову и раскинув ноги. Тонька сидела возле, время от времени щекоча травинкой его лицо. Наталья плела венок.
— Ну что, проучил свою кобылицу? — Алешка повернул голову к Велику.
— Да что там проучил, — замялся мальчик. Ему хотелось покрасоваться в облике укротителя, но было стыдно говорить неправду. — У нее плечо стерто, вот она и не шла.
— Такие пахари, — Алешка кивнул на девок. — Запрячь как следует не умеют, проверить, все ли ладно — тоже соображения не хватает. Хозяева, одним словом.
— Да, Алешечка, миленок, бабье ль это дело — пахать? — Тонька сунула травинку ему в ноздрю, и он чихнул — весело, закрыв от удовольствия глаза.
— Мало ль что не бабье. Война!
Наталья тоненьким жалобным голоском замурлыкала:
Ах, война, война, война,
Во что меня поставила:
Полюбить сопливого
Она меня заставила.
— Алеш, взял бы ты меня замуж, — без всякой связи с прежним разговором сказала Тонька.
— Не выходит, — лениво ответил Алешка, глядя в небо. — Осенью в армию. Война не кончилась, значит… все может быть. А во-вторых, я для тебя сопляк. А кто наших невест будет брать?
— Эх! — Тонька стукнула кулаком по траве. — До чего дожили: девка сама навязывается малому, а он нос воротит. На всю деревню — четыре мужика: двое безногих да двое безруких. И то считаем — повезло ихним бабам.
Разговор пошел кругами — о том, о сем, но не отдаляясь от войны и связанных с нею напастей.
— Вот прямо диву даешься, на чем народ держится? — сказала Тонька. — По всему — давно пора передохнуть, а вот гляди ж ты…
— Все травка-матушка, — откликнулась Наталья. — Много всякой травы едим, вот и держимся.
— Точно, — подтвердил Алешка. — В траве есть все нужное для жизни. Возьми скотину — тех же лошадей или коров. Они ведь весь свой век одну траву едят и живут припеваючи. — Покусывая травинку, мечтательно сказал: — У меня иной раз такая картина перед глазами рисуется: иду я деревней, а она вся новая, хаты смолой сочатся, светлые, молодой соломой крытые, а иные и дранкой. А на задворках десятипудовые свиньи роются, куры бегают, на лужках белым-бело от гусей. И идет мне навстречу… ну, хотя бы вот Наталья… сытая, веселая, рядом мужик ее — в плечах косая сажень, морда просит кирпича, вся грудь в орденах. А кругом ихние дети — сопливые, понятно, но все в сатиновых рубахах и в штанах из мягкой материи, а не в портках из небеленой холстины, и ни одной дырочки, ни одной заплаточки на них.
Велик при этих словах лег на живот, спрятав ноги в куст, чтоб не видели его порток в дырках и заплатках. Алешка продолжал рассказывать свою басню:
— Ах, здравствуйте, Алексей Андреевич, что-то давно не виделись». — «Здравствуйте, здравствуйте. В Брянске на курсах учился электрическому делу. Чтоб в деревне электричество горело, радио в каждой хате играло». — «Ну, заходите, Алексей Андреевич, для дорогого гостя курицу зарежем и бутылку «Московской» поставим». — «Одну минуточку, я только за супругой сбегаю, галстук переменю и в шевиотовый костюм переоденусь. И подарки захвачу».