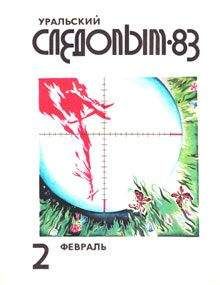— Какие еще подарки? — перебила Наталья. Она смотрела на Алешку затуманенными благодарными глазами. — Отродясь без подарков…
— Не, нельзя. Люди стали культурные, все с образованием не ниже семилетнего, друг с другом только на «вы», в гости без подарков никто себе не позволит. Понятно, подарок не для подпоры в хозяйстве — у всех все есть, а как знак чуткого внимания. Носовой платочек, книжечка какая-нибудь со стишками… «Буря мглою небо кроет…»
Тонька захохотала.
— Ах ты, чтоб тебя… Это ж как надо жить, чтобы для каждого встречного-поперечного обормота курицу резать?
— Извините, не встречный-поперечный, а близкая родня, поскольку намерен жениться на Натальиной младшей сестре. И не обормот, а уважаемый в окрестности человек — механик Алексей Андреевич Ерохин. Имеет жену, троих детей, корову, пяток овечек, двух поросят, пятнадцать гусей, тридцать курей, пять ульев, хатку-пятистенку, садик. Мотоцикл.
— Вот ты, оказывается, об чем мечтаешь, — об кулацком хозяйстве, — сказала Тонька и насмешливо фыркнула. — Мотоцикл захотел! Зачем он тебе? В лес по котики ездить?
— Извиняю вашу темноту и неграмотность, — вежливо отозвался Алешка. — Кулацкое хозяйство — это когда батраки на тебя горбачат, значит, когда хозяйство твое на чужом труде и поте выросло. А мы своими мозолистыми все добудем. В десять рук как возьмемся…
— Какие такие десять рук?
— Мои, супружницы моей и троих наших деток. С малолетства в труде ребятишки будут… Ну, это во-первых. А во-вторых, все так справно жить будут, кто в работе сил не жалеет. Просто все будем жить лучше всяких кулаков. И не только богаче — культурнее, чище, честнее. Вот ты зубы скалишь: зачем, мол, мне в деревне мотоцикл. А я в кино буду жену возить, понятно? — Он помолчал, усмехнулся. — Ну, ладно, черт с тобой! С мотоциклом я, наверно, подзагнул. Пускай не мотоцикл — велосипед.
— Счастливая Нюрка, — вздохнула Тонька. В голосе ее была насмешка, но прослушивалась и искренняя зависть. — Она хоть знает, какие ее радости ждут?
— Откуда? — рассмеялась Наталья. — Ей и четырнадцати нет. Об ребятах еще не думает. И близко к себе не подпустит.
— Это дело поправимое, — сказал Алешка. — Пока отслужу в армии, она подрастет до законного размера… Только вот не крепко уверен, что пойдет за меня. Там Антониха агитацию за другого ведет. Все Заряна нахваливает. «Вот, говорит, мужик, всем мужикам нос утрет. Не гляди, что начальник, а хозяйственный. Затемно выйдешь корове корм задать, а он уже на дворе — тюк-тюк, тюк-тюк. Что-то ладит». Я как узнал, сразу решил пойти наперебой. Встал пораньше, вышел на двор и наблюдаю, когда Антониха мимо пойдет на работу. Только она показалась, я давай молотком по колоде долбить. Орудовал второпях, а было темновато, я и влепил себе по коленке. Ну, понятно, взвыл благим матом. А Антониха как раз поравнялась. «Эх, — слышу, — горемычный. Гвоздь толком забить не умеет — обязательно по пальцам лупанет». Ну что ты будешь делать? Окончательно испортил себе характеристику. Небось, хаяла меня перед вами, а, Наташ?
— Не тужи, — подстраиваясь под его балагурный тон, ответила Наталья, у нас еще Аленка подрастает, так что без жены не останешься.
— Да уж этого добра нынче невпроворот, — заметила Тонька. — Если не выгорит у Антонихи, не горюй. Иди тогда к Единому, сразу всех пятерых отдаст. А какие девки! Прямо диву даешься: хлебца он им отмеряет спичечным коробком — по одному такому кусочку в день, а глянь-ка на них — кофты трещат по всем швам… А лучше всего — плюнь на всех молоденьких, бери меня.
Алешка перевалился на бок.
— Вздремну-ка я минут шестьсот. Прошу не тревожить мой трудовой сон.
Наступила дремотная тишина. Наталья и Тонька тоже прилегли.
В котловине было жарко и душновато: ветерок, дувший наверху, сюда не залетал. Велик сходил к озерку, искупался. Сон его не брал. Стояла, перед глазами картина, нарисованная Алешкой, — новая, отстроенная, ухоженная деревня, населенная здоровыми и культурными людьми, что много работают и вволю едят, ездят на мотоциклах в кино… ну, пускай на велосипедах… И ходят друг к другу в гости с подарками. Как это все Алешка хорошо обсказал! Вот никогда бы не подумал, что у него в душе таятся такие мечты! В деревне его знали как балагура, не очень-то серьезного и не очень-то падкого на работу человека. Истинно: не гляди, что снаружи.
И еще задумался Велик вот над чем: откуда у его односельчан берутся силы? Ведь живут впроголодь, при этом работают тяжело и от зари до зари. А лица румяные, сами крепкие, бодрые, веселые. Кажется, за день так умолотятся, что ни рукой, ни ногой не пошевелить, а вечером вернулись Домой, напихались травой — и вареной, и пареной, и сырой на закуску — и на улицу, веселиться до первых петухов.
Ну, правда, это только молодняк, а кто постарше, совсем вроде бы другие. Вообще он успел заметить, что люди слишком быстро проходят по жизни. Когда годами живешь рядом с ними, этого не видно. А вот на год всего отлучился — и как все изменилось! Вчерашние пацаны — тот же Алешка — стали женихами, невесты, вроде Тоньки, превратились в перестарков, и им, видно, уготована горькая судьба безмужних вековух. Она еще кровь с молоком, еще ходит вечерами на улицу, но уже редко участвует в играх, почти совсем не выходит в круг танцевать. Больше сидит на бревнах или стоит в табуне ровесниц, завистливо глядя на кипящее вокруг чужое веселье, отпуская насмешливые и с течением времени все более злые замечания. Тонька еще пышет молодостью, но глаза ее, случайно подглядел Велик, стали как будто слегка размытыми, в них появилось постоянное выражение отчаяния и терпеливости. И от этого на лицо словно легла тень увядания.
А Антониха? Он помнил ее молодой и цветущей, а сейчас лицо ее подсохло, потускнело и вроде бы потрескалось, как дно высохшей лужи. Дети целы, и муж живой, воюет. Но, видно, заботы, тревоги, волнения, тяжелый труд, недоедание — вся деревенская жизнь военной поры быстро убивает силы.
Велика будто кто толкнул в сердце. Неужели и мать стала такой же, как Антониха, увядающей и некрасивой? У нее тоже есть от чего состариться. Да ладно, лишь бы жива осталась. Тут уж не до красоты.
Незаметно духота все же сморила его. Сквозь дремоту он слышал птичье пение, фырканье лошадей, посапывание товарищей. Потом появился какой-то незнакомый странный звук — не то поскуливание щенка, не то поскрипывание двери. Он-то и разбудил именно своей непривычностью. Велик открыл глаза и повернул голову. Слева от него у куста сидел белобрысый мальчик примерно его лет. На нем были рубаха и портки из небеленой холстины, грубо пошитые, местами нелепо топорщившиеся, местами обвисшие. Осунувшееся круглое лицо было сосредоточенным и строгим. Из вербных лык он плел крошечный лапоток и напевал тоненько и немного скрипуче:
А дилим, дилим, дилим,
Не гонитеся за ним.
Немец, немец, не гонись,
От браточка отцепись.
И слова, и напев тоже были странными. Иногда он запинался и несколько мгновений молча морщинил лоб. Похоже, мальчик сочинял свою песню по ходу пения.
У сестрички у моей
Кудри вьются до бровей.
Ее немцы не сожгли —
Не сумели, не смогли.
Своим пением он разбудил всех. Тонька, облокотившись на землю, приподнялась и, окинув мальчика жалостливым взглядом, спросила:
— Что это ты плетешь, Митя?
— Это лапоточки сестричке моей Катеньке. Она как из огня убегла, так босая и ходит. Мне бы вот только найти ее. Как ты думаешь, она не могла в Гремячинской роще схорониться?
Он поднял на нее серые глаза и посмотрел как-то чересчур пристально, так что Тонька не выдержала его взгляда.
— Ты, Митя, это… Ты, Митя, хорошо лапти плетешь. Кто это тебя научил?
— А дед Авдей. Это еще до того, как сестричку немцы сожгли. Ну, они ее не сожгли, они ее кинули в огонь, а она пожарилась-пожарилась, а потом убегла. Как они отвернулись, так она сразу и убегла. Как ты думаешь, она могла в Гремячинской роще схорониться? — И опять тот невыносимо пристальный взгляд.
В разговор вступила Наталья. Повернувшись на бок, чтобы видеть его, она сказала:
— Митя, а чего ваша Валя на улицу не ходит? Может, ее мать не пускает?
— Валя — это моя старшая сестра, — ответил он, не прекращая работы. — А младшая — Катенька. Знаешь, когда ее кинули в огонь, у нее волосы сразу вспыхнули, а лицо почернело и лопнуло. Тут мать и Валя сразу повалились на землю и больше ничего не видели. Потому и думают, что ее сожгли совсем. А я и дальше все видел. Как она выскочила из огня и убегла. Она была босиком, а кругом снег, попробуй-ка босиком, да еще если из огня. Подошвы-то, небось, тоже полопались. Вот я и плету ей лапти. Дай только найти. Я уже всюду искал: в кустах, на Сером лугу. Следы вроде ее, а куда ведут, не разберешь. Как ты думаешь, она не могла в Гремячинской роще схорониться?