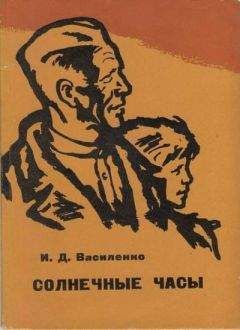— Папа, но они тебя все-таки отпустили… Значит… значит, ты согласился?..
Мастер открыл глаза и с болезненной судорогой на лице прошептал:
— Они грозили убить тебя на моих глазах, если я не соглашусь… И я сказал им, что согласен…
— Но, папа!.. — мальчик судорожно схватил отца за руки. — Папа, ведь легче умереть, чем предать наши часы!.. Неужели мы хуже всех в нашем роду?!
Не отвечая, мастер жадно смотрел на сына, и в его измученных глазах светилась гордость.
В один летний день, когда солнце сияло особенно ярко, горожане были ошеломлены неожиданным сообщением бургомистерства, напечатанным крупными буквами в местной газете:
«В течение 150 лет площадь города украшают солнечные часы, созданные искусной рукой нашего земляка, талантливого мастера Тихона Волкова. Ныне его потомки, всем известный в городе часовых дел мастер Иван Семенович Волков и его юный сын Алексей, желая выразить преклонение граждан нашего города перед Германией фюрера Гитлера, так перестроили солнечные часы своего предка, что они будут впредь показывать время мировой столицы — города Берлина. Сегодня, в двенадцать часов дня, после парада войск в честь фюрера, юноша Алексей Волков в торжественной обстановке переведет часы на берлинское время».
В точно назначенный срок солнечные часы были заключены в рамку серо-зеленого каре солдат. Позади с зелеными повязками на рукаве и старыми винтовками за плечами стояли полицейские. Никто из граждан на площадь не явился. Но имена Волковых были на устах у всех. Одни произносили их с недоумением, другие — с горечью.
Отец и сын стояли, обнявшись, на украшенной зеленью и черно-красными штандартами трибуне, и их лица были торжественны и ясны.
По одну сторону Волковых сиял синими глазами бургомистр, по другую — сдвигал клочковатые брови комендант города. Он говорил речь, но таким отрывистым и хриплым голосом, что всем казалось, будто он подает команду.
Комендант кончил, а площадь продолжали сковывать тишина и неподвижность. Двигалась только огромная секундная стрелка на серебристом циферблате механических часов, повешенных над трибуной. Короткими рывками она быстро приближалась к черной цифре 12. Застыла в воздухе над блестящими трубами оркестра затянутая в белую перчатку рука капельмейстера. Не выпуская левой руки из рук отца, поднял в воздух правую руку и Алексей Волков: точно в назначенный момент он опустит ее на шпиль солнечных часов, чтобы сдвинуть его на новое место. Казалось, в ожидании застыл самый воздух и превратился в стеклянную массу.
И вот только одна черточка отделяет секундную стрелку от «12».
Старый мастер сказал: «Пора» — и сжал руку сына.
Две руки опустились вниз: одна — в белой перчатке, другая — маленькая и загорелая.
Но только раздался первый звук фашистского гимна, как из солнечных часов взвился к небу огненный смерч.
Страшный грохот потряс город, и всю площадь заволок ржавый дым.
Когда он рассеялся и испуганные горожане опасливо подошли к площади, они увидели обгорелые трупы и сизые от ожогов камни.
Но кусок мраморной доски, сброшенный взрывом на землю, был по-прежнему чист и искрился. И на нем, с улыбкой, обращенной к солнцу, покоилась голова мертвого мальчика.
Круглый стол без скатерти. На столе — блюдце с постным маслом и фитильком на краешке. Робкий свет золотит рыжую бородку тракториста Нестерчука и тонет в серых волосах дяди Сережи. Расправляя шершавой ладонью на столе листок бумаги в клетку (вырван из Гришуткиной тетради), дядя тихонько, с хрипотой от сдерживаемого волнения шепчет:
— Вот тут, в ложбинке, одних только шестиствольных семь штук, а пулеметы и в избе Гаврюка, и на чердаке мельницы, и на силосной башне. Вот, видишь? Где крестики — это пулеметы, а минометы я кружочками обозначил. Картина ясная. Одно только: как эту картину переслать нашим?
— Да-а, задача!.. — шепчет; в ответ Нестерчук и вздыхает.
От вздоха огонек мечется по краю блюдца и коптит.
— Я пойду, — говорит Дарьюшка из темного угла, где она на ощупь вяжет Гришутке варежки. — Мужчин немцы ни за что не пропустят, а бабу, может, и не тронут.
— Все едино, — тускло отвечает дядя Сережа. — Они ни мужикам, ни бабам веры не дают. Придется, Никита Петрович, нам самим пробиваться. Ты — в один конец села, я — в другой. Может, хоть один прорвется.
У Гришутки сердце стучит так, что в висках отдает. Он боится, что его и слушать не захотят, а между тем это так просто.
— Дядя Сережа, — задыхаясь, жарко шепчет он, привстав с кровати, — вы только послушайте… Только послушайте… Я от Шилкиного двора пойду… Будто на салазках катаюсь. С горки вниз слечу — и по реке. Я же скорей всех добегу, вот увидите!..
Все поворачивают к нему головы. Думали, спит, а он, видишь ты, слушает.
С кровати на дядю Сережу смотрят большие, ставшие вдруг блестящими глаза.
«Как загорелся!» — думает дядя Сережа с усмешкой. И предостерегающе говорит:
— Убьют.
— Не убьют, дядя Сережа! — все так же жарко шепчет Гришутка. — Не убьют: я — маленький.
— Они и маленьких убивают.
— Не попадут, дядя Сережа: я — быстрый.
Дядя задумывается, смотрит, сощурясь, на огонек и медленно, как бы про себя, говорит:
— Это надо обмозговать.
— Ты что, очумел? — вскакивает Дарьюшка. — Отца повесили, мать замерзла, так и дитя туда же?!
— А ты не горячись, — спокойно отвечает дядя. — Я говорю: надо обмозговать, а не так просто…
Капитан Татишвили отмечал на карте только что полученные донесения разведки, когда в избу вошел дежурный:
— Мальчишка тут один до вас домогается. Требует: к самому главному.
— А ну их! — отмахнулся капитан, — Отбоя нет от этих юных добровольцев.
— Оно так, — усмехнулся дежурный. — Только этот с чем-то другим. Говорит, из Ивановки он.
— Из Ивановки? — насторожился капитан. — Давно?
— Ночью этой.
— Тогда зови! Зови его сюда!
Но Гришутка уже входил. Не говоря ни слона, он сел посреди избы прямо на глиняный пол и принялся стаскивать с ноги валенок.
— Ты что разуваешься? — удивился капитан. — Баня тебе тут, что ли?
Гришутка стащил валенок и, доставая из него листок в клетку, сказал:
— Дис… как ее?.. Дис-ло-кация. Крестик — пулемет, кружочек — миномет, а квадратики — пушки.
— Кто тебе дал? — бросаясь к бумажке, крикнул капитан.
Гришутка вытер рукавом нос, вздохнул и печально ответил:
— Дядя Сережа! Его немцы убили. А в меня не попали.
Прошло три месяца. Отгремели орудия у села Ивановки; бурьяном заросла длинная могила фашистов на краю села; алым пламенем зажглись красные гвоздики на могиле бесстрашного партизана, отца Гришутки, а сам Гришутка все шел и шел со своим батальоном. Не захотел оставаться он в родной Ивановке, где больше никого не осталось из близких ему.
Он пробирался к врагам в тыл и ходил из деревни в деревню, будто в поисках своих родителей: ко всему прислушивался, ко всему присматривался и все подсчитывал.
Гришутку любили, но больше всех привязался к нему сам командир батальона, капитан Лео Татишвили. Они спали в одной палатке и ели за одним столом. Командир был с Гришуткой немногословен и не очень ласков. Нередко, слушая рассказ Гришутки о том, как он чуть-чуть не попался фрицам в лапы, капитан говорил:
— Кончено. Хватит. В ближайшем же городе отдам тебя в детский дом.
Гришутка упрямо качал головой:
— В детский до-ом!..
— Да ведь убьют тебя, чудак!
— Не убьют, — отвечал уверенно Гришутка теми же словами, что и дяде Сереже. — Не убьют: я — маленький.
— И кроме того, тебе учиться надо. Ты вот даже как следует не знаешь таблицы умножения.
— Ну… — Затрудняясь, что ответить, Гришутка морщил лоб, но потом находился: — Про таблицу я у лейтенантов спрошу.
Жили они как настоящие мужчины: не обнажая своей души. Но каждый знал друг о друге его тайну. Проснувшись ночью, Гришутка видел, что капитан сидит за столом и что-то пишет. Пишет, пишет — и посмотрит на стол. А на столе, прислоненная к фляжке, стоит фотографическая карточка. Свет огарка тепло озаряет лицо женщины — тонкий нос с горбинкой и глаза, смотрящие прямо в душу. Хорошие глаза… К утру карточка исчезала и, Гришутке казалось, что женщину с ласковыми глазами он видел только во сне.
Знал и капитан, к кому тянулась Гришуткина душа, когда сон приглушал в ней все наносное и оживлял ее детский мир. Не раз видел ночью капитан, как, разметавшись в своей постели, Гришутка открывал затуманенные сном глаза и невнятно звал:
— Мама!..
Однажды Гришутка вернулся с разведки с бледным лицом. Левый рукав его был в засохшей рыжей крови.
— Ну что, не попадут?! — набросился на него капитан.
Он схватил притихшего мальчика на руки и сам отвез его на машине в госпиталь.