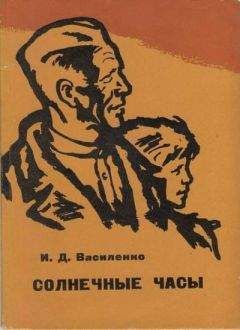— Гончаров? Не тот ли, который письмо писал?
— Тот самый, — козырнул солдат.
Услышав его голос, председатель оторопело вскинул голову:
— Как же это? А писал, что немой.
— Так точно, писал. Тогда я действительно не разговаривал. От контузии онемел. Теперь прошло.
— Прошло?! — удивленно и радостно воскликнул председатель. — А как же вы к нам попали? — И тут же, перебивая себя и ласково заглядывая гостю в глаза, заторопился: — В хату до меня пожалуйте, в хату!
Вечером в просторной комнате избы-читальни собралось несколько десятков человек — почти все взрослое население Коноплянки.
Гость сидел рядом с бородатым председателем, который оказался совершенно лысым. В ожидании, когда откроется собрание, они вполголоса переговаривались. Тут же, среди взрослых, вертелся Петя. В комнате стоял сдержанный гул голосов.
— Занятный какой, — показал гость глазами на мальчика. — Чей он?
Председатель ласково улыбнулся:
— Общий он. Отец на фронте погиб, а мать в хате сгорела. Хотели мы отвезти его в детский дом — не согласился. Ну, и живет тут в одной семье. Без руки, а в школе — первый! — В голосе председателя послышались горделивые нотки. — И к технике пристрастие имеет. Нам обещали радиоузел, оборудовать. Неизвестно, когда это дело будет, а он уже во все дома проволоку тянет.
Подошли еще несколько человек. Председатель вынул из нагрудного кармана сложенное треугольничком письмо, надел очки и открыл собрание.
— Товарищи колхозники, — сказал он, — все вы знаете, что месяцев шесть назад пришло к нам одно очень важное письмо. Писал его незнакомый нам человек из военного госпиталя. Там он лежал после ранения. Теперь этот человек здесь, вот рядом со мной сидит. Письмо мы уже обсуждали на двух собраниях, и я так полагаю, что настала пора вынести по этому делу наше окончательное решение. Слушайте, прочту письмо еще раз.
Он развернул листок и, отчетливо выговаривая каждое слово, свободно, без запинки, видимо зная все письмо наизусть, стал читать:
— «Товарищ председатель, пишет вам красноармеец Степан Саввич Гончаров, по довоенной специальности садовод. Осенью был я в ваших краях — проще говоря, в ожидании наступления сидел в траншеях аккурат против самой вашей Коноплянки. И вот на что я, как специалист своего дела, сразу обратил внимание. К северо-востоку от вашей красивой деревни, занятой в ту пору немцами, раскинулась гектаров на восемь или десять очень ровная площадка, превосходно защищенная от ветров гористой цепочкой в форме подковы. Можно сказать без ошибки, что природа прямо-таки нарочно приготовила ту площадку под плодовый сад. И земля, как это обнаружилось при рытье окопов, суглинистая, то есть вполне подходящая. И вот я тогда решил: как сломим вражескую оборону и будем идти через Коноплянку, обязательно посоветую тамошним колхозникам насадить на этой площадке плодовый сад. Но тут получилось так, что на той самой площадке, когда шли мы в наступление, меня ранило, а потом еще и контузило. Теперь я лежу в госпитале, вот уже много месяцев, от контузии лишился дара слова, проще говоря, онемел, но площадку ту и теперь мысленно представляю. Даже во сне ее вижу в розовом цветении под солнцем. И потому даю вам совет этот в письменной форме…»
Председатель снял очки и деловито сказал:
— Дальше идет описание, какие надо сажать деревья и в каком порядке. Но сейчас я читать этого не буду, а лучше предоставлю слово самому Степану Саввичу. Немота его благодаря нашей советской медицине прошла, и вот он весь перед вами.
Солдат встал, и, будто сговорившись, встали перед ним все колхозники.
Он хотел заговорить, но голос его прервался.
Тогда, борясь с волнением, он начал водить головой вправо и влево, будто хотел освободиться от невидимых пут. И наконец заговорил:
— Товарищи колхозники, очень трудное получилось у меня положение. В самый последний момент пришло в госпиталь известие, что жена и дочурка — проще говоря, вся моя семья — погибли в фашистской неволе. Ну, как мне возвращаться в свой пустой дом! Вот и решил я, если будет на то ваше согласие, остаться тут с вами. На том участке пролилась кровь моих товарищей по роте, с которыми прошел я от Волги до вашей Коноплянки. Жизнью своей вернули они вам землю. Так насадим же на той земле сад, и пусть он растет в их светлую и вечную память…
Он хотел продолжать, но волнение опять сковало его речь, и он опять стал с усилием водить головой из стороны в сторону.
Тогда к нему подошла старая, вся в глубоких морщинах, женщина, помогла ему сесть и, взяв в свои коричневые руки его стриженую голову, остановила ее мучительное движение. Потом села рядом и просто сказала:
— Посадим, милый, все вместе сажать будем. Кто же против такого светлого дела говорить будет!..
Солдату отвели комнату в новом доме. Он лежал на соломенном тюфяке и смотрел в темное окно на лучистую звезду, одиноко мерцавшую в далеком небе. Со станции он, еще слабый после болезни, шел пешком, очень устал, и теперь все его тело отдыхало. Но уснуть он не мог, растревоженный встречей с колхозниками, на чьей земле он пролил свою кровь. И, как всегда в последнее время, когда он думал о чем-нибудь хорошем, тоска о жене и дочери еще крепче сжала ему сердце: они этого хорошего не увидят никогда…
Дверь скрипнула, и кто-то шепотом спросил:
— Спите?
— Нет, — ответил солдат. — А кто это?
— Да я, Петя. Бабка Устинья вам глечик молока прислала.
Мальчик на цыпочках прошел в темноте к окну и осторожно поставил кувшин на подоконник. Немножко помялся и весело сообщил:
— Это та самая бабка, что с вами рядом села! Она у нас серди-итая! Всех ругает, всем перечит. Вы как сказали про сад, я и подумал: вот сейчас разбурчится: «Какой там сад, когда все в земле живем! Сначала надо хаты построить, потом сады сажать». А она — ишь что сказала!.. — Он присел на корточки и дружелюбно спросил: — Значит, вы теперь наш?
— Ваш, — серьезно, будто разговаривая со взрослым, ответил солдат.
Подумав, мальчик сказал:
— Вот я вам радио проведу, чтоб вы не скучали. — Потом опять подумал и ободряюще добавил: — А будете скучать, я и сам к вам перейду. Станем вместе жить. Вдвоем не будет скучно. Проживе-ом! Еще ка-ак!