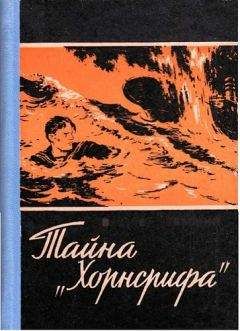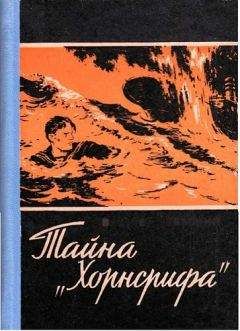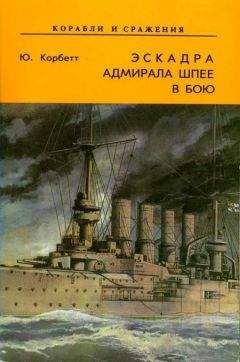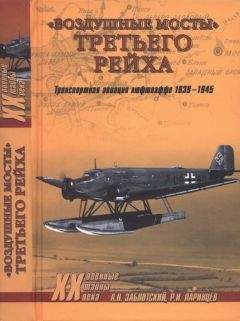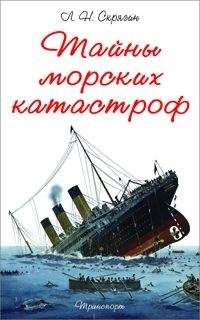— Держись! — закричал он.
Теперь он твердо держал ял по ветру. Посмотрев на людей, беспрерывно вычерпывающих воду, Кунерт ужаснулся: разъяренные волны смыли за борт и поглотили в своей пучине еще нескольких моряков.
— Клоковского и Ринга нет… Геллера, маленького Геллера тоже смыло, — тихо сказал Кунерт не сразу все понявшему Шюттенстрему. — Пионтека тоже нет. Пионтек от жажды потерял рассудок. Ну, теперь он напьется досыта.
— Еще четверо! — заикаясь пробормотал Шюттенстрем. — Из трехсот… шестидесяти… пяти… еще четверо!
Шторм утих внезапно, и так же неожиданно из-за туч выглянуло солнце. В другое время такая погода обрадовала бы моряков. Но теперь люди неподвижно лежали на дне шлюпки. Ни одной улыбки не появилось на их лицах.
Шюттенстрем отчаянно боролся с самим собой. Вдруг он встал, выпрямился во весь рост и посмотрел на Кунерта. С ужасом он увидел, что осталось от когда-то богатырски сложенного моряка: лицо осунулось до неузнаваемости, из- под лохмотьев выпирали кости, обтянутые дряблой кожей.
— Все бесполезно, Кунерт! — невидящими глазами Старик смотрел перед собой.
— Нет! — решительно возразил тот и сердито посмотрел на командира. — Шлюпку, только на одну восьмую залило водой. Шторм утих. Если пройдет еще небольшой дождь, тогда мы выберемся! Слышите, командир?
Его слова были сказаны впустую. Лицо Шюттенстрема внезапно стало мертвенно-бледным.
В первые дни после катастрофы он еще держал себя в руках, сохраняя присутствие духа. Полный энергии и решимости, он пытался вселять в отчаявшихся бодрость, мужество и уверенность в спасение. Но, узнав о гибели надувной шлюпки, Старик вдруг сдал. Обвинения Биндера он принял молча, без возражений. Все попытки Кунерта ободрить командира остались бесплодными.
Теперь Шюттенстрем сидел скрючившись, дрожа всем телом. Его знобило. Все время с тех пор как он пересел в ял к Кунерту, его лихорадило. Но он все же мужественно переносил все невзгоды, старался думать и принимать решения. «Мне надо было бы остаться на борту «Хорнсрифа», — говорил он себе, — тогда я смог бы умереть с честью». Но сразу же оправдывал себя: «Это, конечно, было бы неправильно! Не мог же я бросить своих людей на произвол судьбы? Разве я был им не нужен? Поступив так, я оказался бы трусом! И перешел к Кунерту я тоже правильно. Я хотел избавить дырявую шлюпку от лишнего груза. Я пытался сделать все, чтобы спасти людей. Кто мог знать, что все окажется напрасным?»
У него начался новый приступ лихорадки. Шюттенстрем хорошо понимал, что долго не протянет. Он уже немолод, и перенести такие мучения у него просто не хватит сил. Старый моряк вновь заставил себя проанализировать свои действия во время и после катастрофы: «Кто виноват в гибели судна и многих людей? Правильно или неправильно я поступал?» И сколько бы он ни думал, все время приходил к одним и тем же выводам. Во время катастрофы Шюттенстрем действовал правильно. Он сделал все, что мог. Он был не в состоянии чем-либо помочь гибнувшим матросам. Шюттенстрем не снимал с себя вины в гибели судна и людей. Но причины этого несчастья лежали значительно глубже. В своих многочасовых размышлениях, прерываемых частыми приступами лихорадки, Старик пришел к выводу, что его отношение к жизни было неправильным. «Доктор Бек был прав, говоря, что нужно делать только то, что близко твоему сердцу и твоим убеждениям, только то, за что ты в любой момент готов нести ответственность. Я не должен был, не имел права принимать командование «Хорнсрифом». Я не должен был поддерживать режим, повинный в этой войне и ввергший Германию в несчастье».
Мысли Шюттенстрема спутались, голова закружилась. Он закрыл глаза. «Надо заснуть… Заснуть и забыться… Избавиться от этих мыслей, день и ночь не дающих мне покоя».
Шюттенстрем вдруг сник и начал медленно сползать с банки. Кунерт бросился к нему и попытался помочь встать. Но это уже было не нужно. Шюттенстрем был мертв.
* * *
Начальник оперативного отдела штаба подводных сил озабоченно потирал лоб. Стоявший рядом с ним адъютант вопросительно смотрел на него, ожидая приказаний. Адмирал резко отодвинул кресло, поднялся и забегал перед картой с нанесенной на ней оперативной обстановкой.
— Как это может быть? — ярость и возмущение слышались в его голосе. — Сегодня уже десятое апреля, а от «Хорнсрифа» все еще нет донесений. Транспорту в шестнадцать тысяч тонн не так-то просто исчезнуть из поля зрения. Вы, обер-лейтенант, не можете объяснить, в чем дело?
Адъютант беспомощно посмотрел на своего шефа, безмолвно пожимая плечами. Что он мог ему ответить? В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Адмирал снова упал в кресло.
— Может быть, что-нибудь случилось?.. Это было бы для нас чертовски неприятно. — Сделав небольшую паузу, он в раздумье продолжал:
— Ставка фюрера и так уже имеет на нас зуб!
Что беспокоило начальника оперативного отдела — судьба «Хорнсрифа» или жизнь трехсот шестидесяти пяти человек? Или он волновался, ожидая наказания?
Эти вопросы занимали адъютанта, но он не хотел искать на них ответа… В таких случаях лучше напрасно не перегружать свой мозг подобными мыслями.
* * *
Шестнадцатый день!
Полный штиль. Шмальфельд лежал около неподвижного тела Помайске. Еще утром моряки с ужасом увидели, что Помайске мертв, но у них не было сил, чтобы спустить его за борт. После полудня Шмальфельд приподнялся и, с трудом шевеля губами, проговорил:
— Не можешь… ты его… Помайске… за борт? Я не могу… больше смотреть… на него, — рыдания прервали его слова.
Шмальфельд плакал без слез. Страшный плач! Моряк снова со стоном упал:
— Больше не могу… Не могу…
И откуда только взялись силы у Кунерта! Он с большим трудом приподнялся, встал на колени, чтобы исполнить желание своего последнего оставшегося в живых товарища.
— Счастливого плавания, моряк! — эти торжественные слова прозвучали так, будто Кунерт говорил: «Скоро и мы пойдем за тобой».
Семнадцатый день!
— Эй, Юрген! Ты не мог бы меня сменить? — крикнул Кунерт своему товарищу.
От усталости и истощения он едва держался на ногах. Но Шмальфельд еще больше ослаб, он уже не мог подняться.
— Воды… Воды… — стонал он почти беспрерывно.
Восемнадцатый день!
Навалившись всем телом на румпель, низко опустив голову, Кунерт пытался держать хотя бы примерный курс. Все еще безветренно. Парус бессильно повис. С носа шлюпки едва слышны стоны Шмальфельда:
— Воды… Воды…
Но что вдруг случилось со Шмальфельдом?
Он встал, неподвижными стеклянными глазами уставился на море:
— Что, если я… морскую воду… несколько капель…
Кунерт очнулся:
— Только попробуй! — Он бросил румпель, подполз к товарищу и на ухо ему прорычал: — Выпьешь морской воды — конец!
Двадцатый день!
Кунерт спит лишь урывками. Он сам удивляется, как у него еще хватает сил, как ему вообще удалось сохранить ясность мыслей. «Могу поклясться, что сегодня уже двадцать третий день. Когда-то я читал, — вспоминал Кунерт, — что человек без пищи, а особенно без воды, не может прожить больше двадцати дней». Несколько дней назад он нашел живую рыбу, каким-то образом оказавшуюся в яле, и сразу же проглотил, предварительно оторвав кусочек для Шмальфельда. Но тот даже не раскрыл рта.
«Без пищи, — думал Кунерт, — я еще смогу прожить несколько дней». Третий и пятый дни были днями кризиса. Тогда протестовали кишки, желудок и мозг, дико билось сердце, к горлу то и дело подступала мучительная тошнота, затмевающая сознание. Но с тех пор все прошло, и теперь все его мысли были заняты одним: выдержать! Тогда, после пятого дня, он оторвал от своей тужурки пуговицу и сунул ее в рот.
Теперь он сосал ее все время. Пользы от нее, конечно, никакой, но все же во рту что-то есть. Кунерт заставлял себя не думать о воде. Слизистая оболочка рта стала как пергамент, глотать было мучительно больно. Но пить морскую воду? Нет!
Шмальфельд лежал в полной апатии. «Бедняга», — думал Кунерт, глядя на него.
Двадцать первый день!