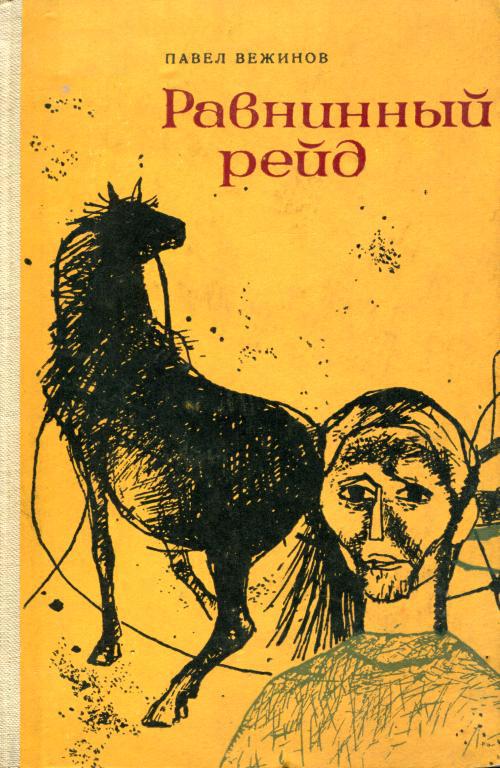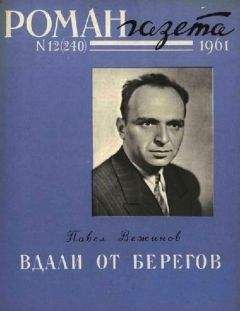судьба и на этот раз пощадила его. Безбородый гимназист в лесу, раздосадованный своим промахом, теперь старательно целился в другую мишень. Задержав дыхание, он плавно нажал спуск винтовки. Послышался выстрел, и жандарм, разносивший жестяные банки с мясными консервами, выпустил латаное полотнище брезента и упал навзничь. Полотнище развернулось, из него высыпались и выкатились по земле банки — красноватые в лучах заката.
Когда Киселов отыскал Черкезова, тот просматривал документы и бумажник убитого полчаса назад связного. В бумажнике было три потертых, но тщательно разглаженных тысячелевовых бумажки, несколько колец и даже целый золотой мост, снятый, видно, с челюсти одной из жертв во время какой-то карательной операции. Услышав голос околийского начальника, Черкезов вздрогнул, словно его застали на месте преступления, проникли в его грязные жандармские мысли — мысли о грабеже, добыче.
— Здравствуй! — ответил он не очень вежливо на приветствие околийского начальника. — Крепкий орешек, а?
Киселов посмотрел на него в упор.
— Похоже, отец твой сбежал с партизанами! — сухо, даже с неприязнью произнес он. — Следствие ведет к тому…
Растерявшийся от неожиданности поручик даже не успел ответить.
— Чудный сюрприз будет, если завтра его найдут среди трупов партизан, — также сухо продолжал околийский. — Представляю какое мнение составит о тебе начальство…
У Черкезова зашлось дыхание, кровь кинулась ему в лицо. Позднее, когда он остался один среди вечереющего поля, он стал лихорадочно искать выход: что сделать, как убедить других и прежде всего свое начальство, что он не такой, как его отец — тем, что он сделал за последние годы, он напрочь, не на жизнь, а на смерть связал себя с ними, с Киселовыми. Неужто Киселов этого не понимает? Неужели и вправду думает, что какой-то там еще отец может иметь значение для его судьбы, для их общей судьбы? Кто-кто, а Киселов-то должен знать: они связаны одной веревочкой, вместе марали руки в крови, слишком много грехов за ними водится, чтобы выбирать себе сейчас какую-то иную дорогу. Поручик вздохнул и с ненавистью взглянул в ту сторону, где исчез начальник. Если он не может его понять, то кто же его тогда поймет, что скажет на это генерал, их областной директор?
Черкезов встал. С юга, со стороны гор, повеяло вечерней прохладой. А небо там синее и холодное, мрачно, враждебно громоздятся зубчатые хребты. По полю, спотыкаясь, брел солдат, неся в руках охапку соломы Наверно кому-нибудь из начальников постелить, — подумал про себя Черкезов. Согнувшись в три погибели в окопчиках, жандармы молча и деловито ужинали: таскали пальцами куски говядины, облизывали желе. Лица у них были хмурые, усталые, и Черкезова пробрала дрожь. День, который уходил, не принес ему ничего хорошего, а о том, что его ждет завтра, поручик не смел и думать.
* * *
Несмотря на то, что партизаны отразили уже две атаки, они лежали в своих окопах грустные, озабоченные. Часам к пяти тихо и незаметно скончался Бородка — никто и не слыхал его последнего вздоха. Рядом с ним товарищи положили тело убитого Чапая: смерть застала его за ручным пулеметом, захваченным у фашистов. Чапай превосходно сражался, и только к концу второй атаки пуля прервала его яростную стрельбу. Но в какой именно момент он умер, товарищи не знали: стрелковые окопы находились на некотором расстоянии друг от друга, за кустами и деревьями. Его нашли холодного и неподвижного, с рукой сжимающей магазин пулемета, и устремившегося вперед, как будто перед тем, как умереть, он приподнялся, чтобы получше разглядеть поле боя.
Шагах в десяти от него, среди вещевых мешков, безмолвно лежал Клим. Пуля попала ему в желудок и осталась там, причиняя жестокую, нечеловеческую боль. Когда его ранили, он вскрикнул, позвал на помощь, и двое бойцов в разгар атаки перенесли его назад, и оставили в неглубокой ложбинке, за грудой вещевых мешков. Пока бушевал огонь сражения, Клим еще позволял себе стонать, но как только стрельба затихла, он сжал зубы и больше не издал ни единого звука. Темнело. Сквозь редкие ветви деревьев проглядывало золотисто-голубое небо — живое, трепетное, прекрасное, с поминутно сменяющимися тонами, с маленькими пестрыми облачками, незаметно таявшими вдали. Гулко отзывались в предвечерней тишине редкие одиночные выстрелы, листва под дуновением легкого ветерка зашелестела, ожила. Клим все так же лежал под деревом — неподвижно, с открытыми глазами, устремленными в гаснущее небо — он не мигал даже тогда, когда раздавались выстрелы. Несмотря на мучительную боль, Клим ощущал запахи леса, ядовитую пороховую вонь и тяжелый зловещий запах своей собственной крови. За эти минуты одиночества юноша все обдумал и решил. Живой, он ощущал уже холод смерти, и все-таки был спокоен. Только изредка из глубины души поднимался бессознательный ужас, вспыхивала пронзительная жалость к себе, но он подавлял их, продолжая смотреть на теплое живое небо. А оно уже больше не вызывало в нем грусти, как в первые минуты, не печалило своей невозмутимой вечностью. И на него, и на небо, и на деревья скоро ляжет черная тень, но сколько поистине прекрасного остается навеки в мире, и в этом прекрасном навсегда останется жить и он.
Часам к восьми к Климу подползли Тимошкин и командир. Стрельба заглохла, и в дубнячке воцарилась лесная тишь. Осмотрев рану Клима, Тимошкин набросил на него легкое одеяло. По тому, как дрожали его веки, чувствовалось, что комиссар с трудом сдерживает волнение. Клим, повернув к нему голову, спросил:
— Как атака? Отбили?
— Да. И представь — без особого труда, — ответил ему Тимошкин. — Янко Павлов попал в майора, прихлопнул его на месте. Это его вторая удача после полицейского капитана…
Легкий, едва заметный румянец выступил на щеках Клима.
— А некоторые товарищи не хотели его брать… Говорили, что неопытный…
— Мы подобрали лучших бойцов, — серьезно сказал Тимошкин.
Клим еще гуще покраснел.
— Вы это потому, товарищ комиссар, что я раненый… И вам меня жалко…
— Нет, Клим, это неверно… Я всегда верил в тебя, знал, что могу на тебя рассчитывать… В этот рейд, ты сам понимаешь, я не мог подбирать людей, исходя из личных симпатий.
— Я ничего не сделал… Ничего особенного, — еле слышно прошептал Клим.
— Не говори так, Клим! То, что мы делаем, пусть даже самая малость, не может быть «ничем особенным»…
Снова грянул выстрел на опушке. Но Клим его не слыхал. Спустя мгновение до него донеслись слова комиссара:
— Ты, брат, полежи, а через несколько минут я снова тебя проведаю.
Клим, приоткрыв глаза, вздохнул.
— Куда ж я денусь, товарищ комиссар… И рад бы уйти, да не могу…
Волчан и Тимошкин отползли в сторонку и присели за могучим стволом старого кряжистого