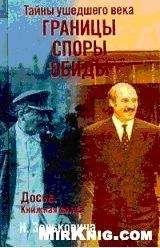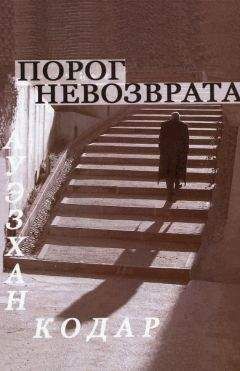Звонкая палочка Василия Васильевича на этом месте оборвала песню.
— Басы! — раздраженно кинул он. — Разве вы не чувствуете, что кто-то врет?.. Повторим…
Врал, наверно, я, заслушавшись голосом Нины. Да и вообще, какой я бас? Кто это придумал поставить меня в басовую партию? У меня и теперь не бас, а так какой-то неопределенный голосишко, смахивающий на тенорок.
Мы повторяли. Дошли до того места, где пришлось оборвать. Сошло. Продолжали дальше:
Оно горит и ярко рдеет —
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.
Ничего не скажешь, сильная песня. Особенно последние две строчки, просто-таки пророческие:
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!
«Красное знамя» исполняли мы у себя на праздничном концерте, в городском клубе «Труд и отдых», у водников затона. Хорошо встречали нас всюду…
Обо всем этом думал я на самом переднем крае Калининского фронта, где никого не было ближе нас к врагу, лишь одно красное знамя над старым сараем. А над сараем ли? Ведь в песне-то — над миром реет!..
На этот раз сбили его гитлеровцы рано. Из миномета. Когда появился с термосом Иван Куличков, флага не было.
— Уже?! — не поздоровавшись, уставился он взглядом в сторону речки.
— Позже бы еще пришел… — вяло ответил Ермолаев.
— Сволочи, — мрачно произнес Куличков. — Ничего, завтра снова будет! — уверенно выпалил он. — Не из таких, чтобы струсить!..
Мы было подумали: известен нашему Куличку тот герой. Нет, оказывается, ни он, ни кто другой в батальоне не знал, что это за смельчак.
А флаг, верно, утром опять появился, только вроде бы больше, ярче прежнего, и древко выше. А посредине — в бинокль хорошо видно — серп и молот белеют!
Ликовали мы весь день. Весь день нервничали немцы.
— Этот не сбить! — авторитетно заявил появившийся с термосом Куличков. Вместе с нами он во все глаза глядел на кумачовое пламя у речки.
Степа Ермолаев мечтательно произнес:
— Кабы на железном стержне…
— А может, и на железном. Нам отсюдова не видать, — заметил в ответ Куличков.
«Уж не ты ли это, милый Куличок, устроил?» — вдруг подумал я. Но, взглянув на нашего щупленького повара, усомнился.
В следующую ночь на передовой нас сменил взвод из другого батальона. А потом и весь наш батальон отвели на отдых. Я не знаю, было ли у истории с флагом продолжение. Да для нас это уже не имело значения. И мы не узнали, кто из наших поднимал кумачовый стяг над сараем. Важно другое: я уверен, что мои однополчане, оставшиеся в живых, вряд ли забыли тот гордый, непокорный красный флаг. Не могли забыть! Как волнующая песня, был он для всех нас.
1960
Он сидел на гауптвахте вторые сутки и уже успел многое передумать. То бранил себя за дурной норов, из-за которого не раз попадал в немилость, бранил не жалеючи, словно постороннего. То представлял себя наедине с командиром подводной лодки: раскрывал перед ним душу, давал слово комсомольца никогда больше не оступаться. Выходило это убедительно и жалостливо. Капитан-лейтенант, растрогавшись, прощал все прежние грехи, говорил, что верит — будет матрос Ермолин настоящим человеком. В эти минуты лицо Ермолина становилось умильным, глаза улыбчивыми.
Но стоило вернуться к действительности, как снова настроение портилось. Ведь так дико все вышло! Не совладал с собой, ершился перед старшиной, будто маленький: «Почему все я?.. Не буду!.. Не хочу!» Капитан-лейтенант, конечно, вправе был осерчать. На этот раз он ни о чем не расспрашивал, не укорял, слова были резкими: — Трое суток ареста! Хватит, понянчились!.. Ермолин смотрел себе под ноги, но чувствовал колючий взгляд командира. Даже сейчас, на гауптвахте, вернулось к нему это неприятное ощущение. Чтобы избавиться от него, он начал шагать из угла в угол.
И верно — думы сменились. Он попытался представить, чем занята команда лодки, как обходятся без него, трюмного машиниста Ермолина. Хотелось увидеть грустные, задумчивые лица, услышать сочувственные слова, но, казалось, все были до обидного веселы, увлечены работой, никому не было до него дела.
«Хорошо бы оказаться сейчас дома, в Сосновке», — подумал он, и в памяти всплыла картина проводов.
… Рядом идет мать. Она говорит неторопливо, ласково:
— А ты не тоскуй, Саня. Послужишь с годик — на побывку командир отпустит. А то и я наведаюсь.
Он стыдится материнской нежности — сзади идут друзья и, наверно, слышат, как уговаривает его мать, хотя он и не думает печалиться. Наоборот, сердце полнится какой-то большой незнакомой радостью. Он едет на флот, будет военным моряком!..
Среди друзей — та, что люба ему. Он знает: в ее грустных синих глазах наверняка стоят слезинки, готовые вот-вот скатиться на пыльную дорогу, — только обернись он, взгляни на нее.
Мать, словно подслушав его, тихонько говорит:
— Тасе-то пиши, не забывай. Скучать она будет.
— Мама!.. — останавливает он.
Впереди на колхозной пролетке едет младший братишка Сани — Володя. Он не торопит лошадь, знает, что к поезду успеют.
Выходят на поскотину.
— Остановись, Вовка-а! — кричит мать Володе.
Настает время прощания. Ватага сразу становится шумной. Александр взволнованно глядит на друзей, улыбается…
Улыбка и сейчас скользнула по губам Ермолина. Он спохватился, будто сон стряхнул с себя: «Плакать надо, а ты!..»
Да, минул год, на исходе второй. Многие из его товарищей уже успели побывать в отпуске, а ему и заикнуться нельзя — заказана дорога на побывку к родным. Вот прибавилось еще одно — тяжелое — взыскание… Уснуть бы надолго-надолго, а пробудиться прежним, незапятнанным, без дурной славы, и начать бы всю службу сызнова, по-хорошему. Уж он сумел бы строгим быть к себе!
Опять лицо матери встало перед ним, и голос — добрый, родной — послышался будто наяву:
— Запомни, Саня: платье берегут снову, а честь — смолоду…
Мать в первый раз говорила с ним, как со взрослым. Было это вскоре после смерти отца. Сане пришлось тогда оставить восьмой класс, идти на колхозные работы.
Ему вдруг стало жалко мать. Хлопотунья, труженица, вдова с тремя детьми — много ли знала в жизни радостей?! А он еще добавил заботы, тупица, — писать ей даже перестал… Что она только не передумает теперь о нем! Вспомнит своего Саню — пригорюнится, всплакнет украдкой от Володи, от Галинки…
Захотелось тотчас же написать матери, приласкать ее, до времени поседевшую, успокоить. А о чем писать? О том, как, не заметив, помаленьку растерял свою матросскую честь? Понапрасну растревожишь только. Если бы самому появиться дома — другое дело.
Принесли обед.
Матрос Огурцов, которого Ермолин почти не знал, подавая обед, заговорщически шепнул ему:
— К тебе мать приехала.
Ермолин с обидой в голосе огрызнулся:
— Еще что соврешь?
Огурцов не ожидал такой неблагодарности и уже равнодушно сказал:
— Не веришь — не надо. А я сам в проходной слышал, как она расспрашивала: «Родимый, скажи, как мне туточка разыскать свово сынка Александра Михайловича Ермолина?»
Передавая слова матери, он так подделался под ее голос, что уже нельзя было не поверить. Ермолин побледнел.
Когда он снова остался один, нахлынуло отчаяние. Ребята, чего доброго, уже ляпнули матери: «Сидит ваш ненаглядный Саня…» А старшина? Вряд ли упустит он такой удобный случай, чтобы не пожаловаться на непокорного подчиненного. Ермолин ясно представил, как Ржаницын изливает его матери свою накипевшую горечь: «И вырастили же вы, Наталья Никитична, такого непокорного сына. Просто сладу с ним нет. Своего командира не слушается, грубит. Дело до большой неприятности дошло. Вам повидать его не терпится, а он, знаете, где коротает время?..» А вдруг ее провели прямо к капитан-лейтенанту?.. Росинки пота выступили на лбу. Ермолин рад бы не думать, будь что будет, но догадки, одна мрачней другой, лезли в голову. Хоть бы не уехала обратно расстроенная, подождала бы… Еще почти двое суток… Как долго!..
Он не сдержался, застонал.
Командиру подводной лодки Киселеву о приезде матери Ермолина доложил старшина 2-й статьи Ржаницын.
— Ну что ж, — сказал капитан-лейтенант, — договоритесь от моего имени с дежурным по части, чтобы пропустили.
— К вам ее провести? — спросил старшина.
— Да.
— А Ермолина, товарищ капитан-лейтенант, по такому случаю… освободить бы до срока. — Голос Ржаницына вдруг стал тихим и неуверенным.
— Не так-то просто это сделать. — Командир дотронулся кончиком карандаша до своих черных усов. — А что, пожалели?.. Его или мать?