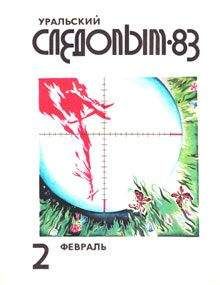— Да куды ж мы едем? Ды что ж это нас поджидает? Ды мертвая ж кругом землица наша!
— Цыть! — сердито прикрикнул Борисьевич и громко, чтобы слышали все навострившие в пх сторону уши, сказал: — Вот ты не видала, а я видал: на порушенном блиндаже березка уцелела. Вся пораненная, без верхушки, одним корнем только и держится за землю, а зеленеет. И еще я видал: у одной землянки дымок курится и девчушка куда-то шла. Далеко было, не разглядел, что несла в руке — плетушку или ведро. Живут, значит. И будут жить, раз уцелели. А мы — убитые, что ли?
В Рославле пришлось пересаживаться на другой поезд. А Борисьевич уехал без пересадки. На прощанье он сказал Велику:
— Запомни мой адрес. Я понимаю: до меня далеко и я тебе человек бесполезный. Да мало ли что — жизнь нас дожидается, сам понимаешь, какая.
Рославль был набит беженцами, как мешок сухим горохом. Они усеяли берега речушки, протекавшей здесь, дымили кострами, толклись на улицах разрушенного города, бродили по железнодорожным путям.
Здесь у вагонов уже толпились оборванные беженцы разных возрастов, завязывали с солдатами разговоры, выясняли, нет ли среди них земляков. То и дело слышалось: «А брасовских нет?.. Может, карачевские? Клинцовские?..»
У одного вагона бушевала веселая пляска. Скуластый сержант с замысловато уложенным русым чубом наяривал на гармошке, сидя в дверях теплушки, а в кругу вертелись, бегали, ходили вприсядку четверо солдат. Это была бесконечная «барыня» — одни, устав, покидали круг, на смену выходили другие.
Вдруг в кругу появилась девушка. Холщовые юбка и кофта на ней были заношены и застираны до дыр, мастерски заштопанных, на ногах неизвестно как держались туфли не туфли, босоножки не босоножки — резиновые подметки на веревочках. Но она была юная, веселая, смотрела независимо и дерзко и потому ветхость ее одежды и обуви в глаза не бросалась. Девушка тряхнула короткими смоляными волосами, подбоченилась, изогнулась, топнула, повела плечами, и все увидели, что это цыганка. Гармонист сделал замысловатый перебор и заиграл «цыганочку», но она крикнула:
— Давай «барыню»! — и пошла выбивать своими подметками по утрамбованной земле и ладонями по себе так дробно и складно, так зажигательно, что вокруг задвигали в такт плечами, защелкали пальцами, застучали голыми пятками о землю. А девушка, подстегнутая этой всеобщей поддержкой, еще ловчее заработала телом и ногами, дробнее замолотила ладонями, закружилась вихрем. В круг выскочило сразу трое солдат и пошли выделывать кренделя.
Никто не слыхал, как свистнул вдали паровоз. Раздалась команда: «По вагонам!» Солдаты хлынули в открытую дверь теплушки. Гармонь смолкла. Один из тех трех, что плясали с девушкой, взял ее за руку и потянул за собой, приговаривая:
— Минутку, минутку.
Но она вырвалась и убежала. Чудачка! Не видела, что ли, сверток, который протягивали из вагона этому солдату, ясно же, для нее?
Эшелон ушел, и. Велик вернулся на берег к Манюшке.
— Ну что, скоро поедем? — встретила она его вопросом. — А то все едем и едем, харчи едим и едим, а домой приедем — и зубы на полицу.
— Не скоро еще. Иди, если хочешь, побегай.
Девочка ушла, а он, завалившись на траву возле своих отощавших сумок, развернул газету, что удалось добыть у воинского эшелона. Велик уж и забыл, когда в последний раз держал в руках книгу или газету. Поэтому читалось внимчиво, прямо-таки с наслаждением. Начал он с самой верхней строчки: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и постепенно, по буковке, по слогу, по слову впитывал текст, не пропуская ни одной заметки. И ему казалось, что с каждой новой фразой он все выше поднимается на какую-то гору и все шире виды открываются окрест. Где-то невообразимо далеко — на Урале — люди добывали руду, варили сталь и делали танки, еще дальше, в Сибири, убирали хлеба, и школьники собирали колоски в фонд победы. Наша армия громила фашистов уже поблизости от их границ. В Литве нашли место, где было расстреляно двадцать восемь тысяч мирных жителей. И, оказывается, американцы открыли, наконец, второй фронт в Европе. О нем Велик не раз слышал от власовцев — чаще всего с насмешкой: мол, большевики дождутся его, когда на горе рак свистнет. И вот — все-таки свистнул рак…
У Велика даже голова закружилась. Как будто из какой-то подземной норы на свет вылез. Мир живет, в нем творятся вон какие огромные дела. В сравнении с той большой жизнью его беженское житьишко кажется прозябанием, заботы и хлопоты — муравьиной суетней. И постоянно подавляемое нетерпение — скорее, скорее домой! — вспыхнуло с новой неудержимой силой.
На дороге, что вела к станции, Велик заметил Манюшку.
«Чего это она бежит?» — удивился он.
Странно было и то, что она прижимала руки к груди, как будто кого-то о чем-то умоляла. Когда девочка приблизилась, Велик увидел, что одна рука у нее за пазухой, а другая поверх платья поддерживает ее.
Манюшка с ходу рухнула на колени рядом с Великом и, протянув к нему руку, что-то вытащила из-за пазухи, нетерпеливо попросила:
— Швыдче раздели, а то моя ужака до смерси меня закусает!
У нее на ладони лежала скибка хлеба, а на ней розовый кружок колбасы. С одной стороны он был чуть-чуть надкусан — видно, борьба с ужакой была нелегкой. От колбасы тянуло тонким ароматным умопомрачительно вкусным запахом, и у Велика засосало в животе и дотекли слюни. Но глянув на страдающее Манюшкино лицо, он подумал, что двоим там только на зубок, только раздразнить аппетит, а девчонка заслуживает награды — выдержала такое испытание, чтоб только поделиться с ним, это ж надо, при ее-то ненасытной ужаке. Все ж колбасный запах был неотразим, и Велик откусил кусочек от розового кружка. Остальное протянул Манюшке.
— На, только не спеши глотать, а то и не узнаешь, что это за штука такая — колбаса.
Наконец дождались порожняка на Брянск. Грузились в вагон без крыши — в таких перевозят уголь. Пришлось бы помучиться: борта высокие, лезть по железным скобам неудобно, тяжело, с ношей за плечами — вдвойне. Помогла цыганка, та, что плясала у воинского эшелона. У нее барахла не было, только небольшой узелок.
В вагоне она устроилась рядом с ними.
— Я гляжу, вы одни, голуби, — сказала она певуче с чуть улавливаемым акцентом. — И я одна. Будем вместе, ладно?
Велик пожал плечами с притворным равнодушием.
— Места не купленные — где сидешь, там и твое.
На самом же деле ему было лестно, что вот такой интересный человек — взрослая красивая плясунья-цыганка попросилась к ним. Да и удобно — выяснилось, что она тоже едет до Навли, значит, и выгрузиться поможет, да и в дороге мало ли что может случиться — со взрослым надежнее.
К вечеру, уже в пути, пошел дождь. Толстые косые струи серебристо сверкали в лучах заходящего солнца.
— Как красиво, — сказала Милица — так звали цыганку.
Она спрятала свои густые черные волосы под жакетку, сняв ее с себя и накинув на голову. В темной глубине ее глаз как будто бушевала гроза — там время от времени вспыхивали молнии.
Велик тревожно отвел взгляд — эта бушующая глубина невольно засасывала.
— Красиво-то оно красиво, — озабоченно нахмурившись, откликнулся он, — только как бы нам без харчей не остаться. — И прикрыл собой сумку, где были хлеб и мука.
— Маня, подвигайся ко мне под жакетку, — позвала Милица.
Манюшка отчужденно отодвинулась.
— Не глиняная — не размоюсь.
Милица глянула на нее удивленно, но ничего не сказала.
Когда дождь кончился, сели ужинать. У Милицы в узелке нашлись четыре вареные картошины, и она выложила их на общий стол. Взамен Велик дал ей кусочек свиной тушенки. Хлебушко у каждого был свой.
— Что ж ты у солдат не взяла? — спросил Велик. — Стеснительность напала? А там здоровый сверток был!
— Харчей я всегда добуду. Я ведь цыганка. Погадаю на ручке — дадут чего-нибудь. А солдатам я не за плату танцевала… Эх, голубь, — вздохнула она. — Как побываешь на самом краю жизни да заглянешь туда, за этот край, дорожить ею начинаешь в сто раз больше. Они мне жизнь вернули — неужто для них станцевать жалко?
— Ты… у немцев побывала?
— Где я только, голубь, не побывала… Нас — весь табор — захватили недалеко от Карачева. — Стало уже совсем темно, лица ее не было видно, и только по паузам, которые она делала иногда, пытаясь справиться с волнением, и по вздрагивающему голосу можно было представить, что оно выражало.
— Больных и старых постреляли сразу, — рассказывала Милица, — а остальных погнали… Взять с собой ничего не дали, идти было легко. Трудно досталось, у кого грудные и совсем маленькие дети были. Все помогали им нести, но основное все-таки выпало им. Нас торопили, подгоняли прикладами, и скоро мы еле тащили ноги. У Нонки мальчик двухлетний запросился до ветру, она кое-как объяснила конвоиру, и он разрешил, а когда Данилко присел, подошел и стукнул его по головке прикладом. Мальчик так и ткнулся носом в землю. Нонка закричала и кинулась к нему, а немец полоснул по ней из автомата. Она упала рядом с сыном и задергалась. Так и остались лежать на картофельном поле голова к голове.