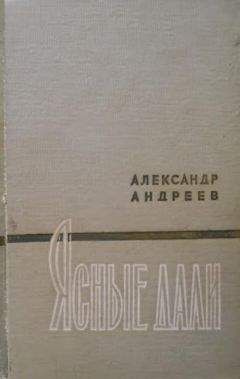Перед глазами возникали образы из прочитанных книг: английский поэт Байрон, сражающийся на баррикадах за свободу греческого народа против турецкого ига; герой Парижской Коммуны польский генерал Домбровский; воины немецкого батальона имени Тельмана; итальянские гарибальдисты… Горели, низвергаясь, фашистские самолеты, сбитые советскими летчиками-добровольцами, лопалась броня вражеских танков от прямых, попаданий танкистов. «Не боимся, презираем, обвиняем и уничтожим тебя, фашизм!» — повторяли мы слова советского писателя, сказанные им в Мадриде. Как можно было сдержать себя — надо было немедленно отправляться в Испанию добровольцем!
Мне уже виделся эшелон, мчащийся через границы в далекую страну. «Гренада, Гренада, Гренада моя…» Рисовались незнакомые берега, вооруженные люди, тревоги, взрывы, атаки… Героическая боевая жизнь. Под стать корчагинской!..
Собравшись втроем — Никита, Саня и я, — мы обсуждали мое предложение. Никита согласился сразу:
«Что ж, можно и в Испанию… Посмотрим, на что годимся».
Кочевой колебался: в этом году он перейдет в консерваторию, сбудется его мечта, а уехать — расстаться с учебой, со скрипкой… Но я настойчиво убеждал его в том, что наше место там, среди сражающихся, мы не имеем права сидеть сложа руки, когда фашизм душит народ, гибнут люди…
«Ты думаешь, у меня мечты нет? Есть! Но мы обязаны жертвовать ради главного. А главное сейчас там, в Испании… А музыка от тебя не уйдет, Саня.. Ты будешь писать оттуда боевые очерки в газеты…»
Саня Кочевой не устоял…
И вот мы в военкомате. С уверенностью, что никто не в силах противостоять нашему стремлению, мы вошли в первую же комнату и увидели лейтенанта, худого, рыжего и длинноносого, с круглой плешинкой на макушке. Он сидел за столом, заваленным бумагами, и рылся в картотеке. Не отрывая рук от карточек, он повернулся к нам и сердито спросил:
— Что надо?
— Мы хотим поехать в Испанию добровольцами, — сказал я как можно громче и отчетливее, чтобы он, кой грех, не уловил в моем голосе нерешительности.
Слова эти будто укололи лейтенанта. Он отшвырнул от себя ящик с карточками, вскочил и, наступая на нас закричал, багровея и жестикулируя:
— В Испанию? Никаких Испании! Слышите? Убирайтесь отсюда, не мешайте работать!
Вот так прием! Саня растерянно замигал и с опаской попятился к выходу. А Никита придвинулся к лейтенанту и глухо, но твердо проговорил:
— Мы не в гости к вам напрашиваемся. Понятно? Вас посадили тут не для того, чтобы кричать на нас.
— Работать не даете, черт вас возьми! — Лейтенант чуть понизил тон. — Пачками ходите — весь год, каждый день. Точно помешались все на этой Испании. Молоко на губах не обсохло, а спасителями себя возомнили! Как будто без вас там не обойдутся.
«Значит, мы — не первые», — ревниво подумал я, задетый его словами…
— Ладно, ковыряйтесь в своих бумажках, — бросил Никита, отворачиваясь от лейтенанта. — Найдем, к кому обратиться. Пошли, братцы…
В это время из соседней комнаты показался подполковник, полный, широколицый, с усами щеточкой. Он молча и укоряюще покачал головой, глядя на лейтенанта, потом провел нас к себе, усадил на скользкий, обтянутый желтым дерматином диван.
— Ты кто, как зовут? — спросил он меня.
— Дмитрий Ракитин. Шофер я.
— А ты?
— Я кузнец, Добров Никита.
— А я музыкальное училище окончил, в консерваторию поступаю.
— Комсомольцы, конечно? — спросил подполковник. — Видишь, какие замечательные ребята. Просто прелесть! — Слово «прелесть» как-то не вязалось с его внушительным видом и наводило на мысль, что он разговаривает с нами несерьезно, как с детьми. — Что же вас зовет туда в Испанию? Ненавидите фашизм. Так, так… — Подполковник помолчал, с любовным сочувствием оглядывая нас, затем улыбнулся: — А знаете, что я вам скажу, только между нами, по секрету: я тоже с фашизмом не в ладу и тоже хотел бы поехать в Испанию. Хочется собственной рукой вогнать пулю в лоб хоть одному фашисту. Да, да… — Я взглянул в его немигающие, холодноватые глаза и подумал: «Да, он поехал бы…» — Но мне приказывают работать здесь. Вот и я вам, как старший товарищ, говорю: идите по домам, работайте, учитесь. Да и вообще, если подумать, человек ведь не для войны, не для убийства создан, а для жизни, для любви, дружбы… Но если наступит час, а он, наверное наступит — события-то в мире вон как завертелись, — будьте готовы для этого часа…
Я чувствовал себя тоскливо; рассудительные доводы этого человека разбивали что-то, казалось, определенно сложившееся, незыблемое… Саня Кочевой с наивностью ребенка подтверждал, соглашаясь с ним:
— Да, да, конечно, для нас еще будет дело впереди…
Военком встал, выпрямился. Встали и мы. Он подал каждому из нас руку:
— Будьте здоровы, ребята, желаю вам удачи. — И легонько выпроводил нас за дверь.
После сумрачного коридора свет улицы был слепящим, дул горячий ветер. Покосившись на меня, Никита неожиданно рассмеялся над моим подавленным видом:
— Навоевались, значит! С победой!
Я не отозвался. Такой неожиданный исход задуманного предприятия ошеломил меня: не так-то просто, видно, добиваться цели…
Саня поспешил утешить меня:
— Стоит ли отчаиваться, в самом деле? Не удалось одно — удастся другое. Очень-то нужны мы там. Тоже — вояки…
Никита дружески посоветовал мне:
— Поступай в свой строительный институт и держи путь на инженера. Это вернее, Дима.
«Да, строительный институт… — повторил я про себя. — А что он в сравнении с жизнью Павла Корчагина, Чкалова?.. Придется все-таки идти в строительный… Что же еще?»
Но нашлась и у меня своя звезда.
Случилось вскоре остановиться мне на Чистых прудах, возле кинотеатра «Колизей» — спустило переднее колесо. Я переменил баллон и, прежде чем сесть в кабину, огляделся. Взгляд упал на объявление, прикрепленное к железной решетке ворот: «Открыт прием в школу киноактеров». Оно не произвело на меня никакого впечатления, смысл его не дошел до сознания. Я дал газ и укатил. И только через час или два — я был уже где-то у Дорогомиловской заставы — зрительная память случайно поставила перед глазами этот фанерный щит на железной решетке, восстановила все строчки до последней запятой… Я резко затормозил посреди мостовой. То пятно, которое смутно проступало сквозь облако, вдруг прояснилось, и свет со всей силой ударил в глаза — все другое отодвинулось от меня и поблекло.
Я развернулся и погнал грузовик, рискуя быть задержанным регулировщиками, — мне казалось, что я опоздаю и объявление снимут…
Когда же мы встретились вновь и я сказал, что раздумал поступать в строительный институт, Никита насторожился:
— Почему? А куда ты хочешь поступать?
— В школу киноактеров.
Саня рассмеялся, словно я удачно пошутил.
— Что, что? — переспросил Никита, крайне удивленный. — Повтори-ка, может, я ослышался. — И, поняв, что я говорю всерьез, даже присвистнул. — Хорош! Выходит, все твои рассказы о строительном институте — просто пыль: ветерок налетел — и развеяло… Я думаю, ты все-таки этого не сделаешь.
— Уже сделал — документы поданы.
Никита вспылил:
— И чего тебя качает из стороны в сторону, точно горькую осину на ветру! Популярности ищешь?.. — Он с презрением отвернулся.
Саня успокоил его:
— Не расстраивайся, Никита. Он еще передумает пять раз, ты же знаешь его. И потом, подать заявление — еще не значит сдать экзамен. Туда не так-то легко попасть, мне это хорошо известно, первого встречного не возьмут. Там такой отбор, что ты и не представляешь!
Саня испугал меня: я не подумал о том, что меня могут не принять, и зря заговорил об этом сейчас — надо было сначала выдержать экзамены, а потом уж и объявлять. Взгляд Никиты сделался жестким, а в голосе слышалась горечь:
— Один в музыканты, другой в артисты… А кто будет в копоти, в дыму, у молота? Выходит, Никита Добров?.. — Он холодно попрощался со мной и ушел, сказав: — Мне скоро на смену.
6Школа киноактеров помещалась в здании кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах. В просторном зале толпились, ожидая своей участи, поступающие: нарядные, свежие и преимущественно красивые девушки, с манерой держаться свободно и непринужденно, с улыбками, рассчитанными на обаяние, некоторые из них явно подражали какой-нибудь популярной киноактрисе; парни, что попроще, с робостью неискушенных людей держались ближе к углам, в тени, и, внутренне готовясь к смотру, глядя в стену или в пол, шепотом повторяли слова басен и монологов, а те, что уже немало терлись в театральных студиях и не раз вставали лицом к лицу с грозными приемными комиссиями, порхали по залу, просвещая и ободряя новичков, — они как бы купались в этой атмосфере мучительного волнения и надежд. От немого трепета перед комиссией одни бледнели, на щеках других рдели пятна неестественного румянца.