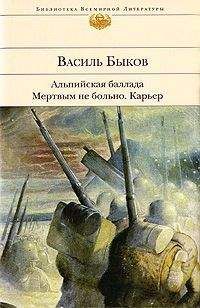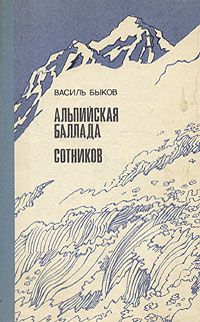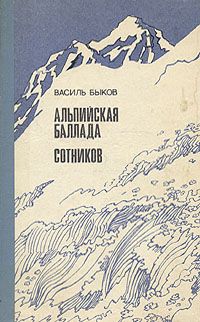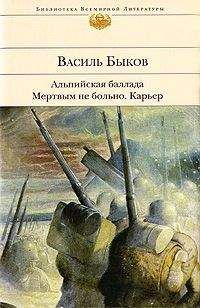подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила.
А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы - кто выздоровев от ран, кто просто
оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, - начали сходиться, договариваться,
повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по
крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен.
И пошли.
Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще
хуже, уходить тайком - объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не
отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо - так надо: дело военное».
И он, и тетка Гануля собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе
и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко - а главное, не
тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так -
появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен - не обманывал, не лгал,
поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.
Он не любил причинять людям зло - обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него
таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того - случалось, и взыскивал, но старался,
чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников
упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать - черт с
ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что
очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут
другие.
В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, по
потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло
сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу,
Петр словчился удержать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то
полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе,
в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой
радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком,
помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и
терпкая парность крови на морозе...
Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно,
около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна
быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако
прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал
опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не
вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не
расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так
далеко.
Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц
наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил
на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя
заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.
- Ну как? Ничего?
- Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.
- Ладно, обойдется, - отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: - Ты не приметил, мы
правильно идем?
Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.
- Вроде бы правильно. Лес там.
- А дорога?
- Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.
Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их
напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что
это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в
сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же
он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли.
Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало
ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он,
нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на
пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.
- Давай, давай! Бегом! - негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.
Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И
вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу - разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь.
Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо
118
увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани
уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу,
перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же
ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже
поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал,
что вот-вот их окликнут.
Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно
были видны на дороге: их оказалось двое - вторые почти впритык следовали за первыми. Но седоков
пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень
желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно,
крестьяне - по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот
его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу
обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься,
чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.
И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:
- Э-эй! А ну стой!
«Черта с два тебе стой!» - подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось уже
немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск - там бы они,
наверно, ушли: Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно
закричало вдогон:
- Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!
В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» - все стало просто и до
душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что
главное сейчас - как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть
стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он,
однако, не бросил - тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо
прорвутся.
Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так