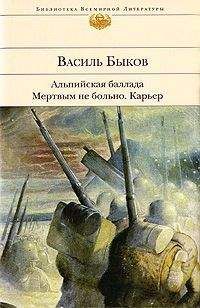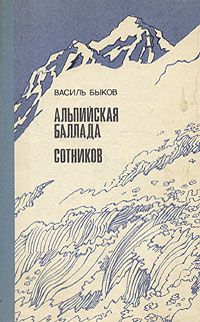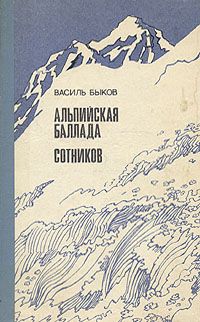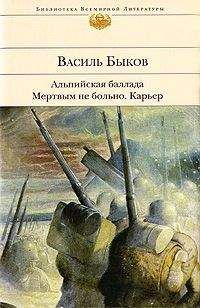штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было
страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления - пришло лишь трезвое и будто не его, а
чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка
удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые
безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.
Сзади опять послышались голоса - наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или
мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся
на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше
колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание - двинув
затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.
Он снова увидел троих на склоне - один впереди, двое сзади, - неясные тени не очень уверенно
спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем
прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел; что там, на склоне, все разом
упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал
их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после
120
болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за
ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить
еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули - одна взвизгнула
над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился - пусть бьют.
Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.
Смерти в бою он не боялся - перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений, - страшно
было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу
тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо
карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в
безопасное место, Жмаченко скончался.
Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спастись,
разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие - это главное. Нога как-то странно
мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало.
Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся.
Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников
потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильней стала болеть нога.
Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка
повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула
еще одна тень - сдается, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к
нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно - мушка и
прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда - на этот раз около
десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку.
Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.
Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше;
от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли,
будто пропали в ночи - нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они
оставят его тут - постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или
он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он
испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся
на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, - не сдаться
живым.
Сотников осторожно приподнял голову - в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но
вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда,
сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного
подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами,
думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.
Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много - он уже утратил всякое ощущение
времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что
они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил.
Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда
он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.
Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И
Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка
ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув
немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.
Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог
пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок я приподнял голову. Сдается, перед
ним никого не было, Теперь пусть бегут - он был готов прикончить себя, стоило только впереть в
подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-
таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов - ими он даст последний свой бой.
Он привстал выше - где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они
провалились...
Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как
будто потемнела, месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он,
в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в
полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей
там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой,
почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило
пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не
заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток.
Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ - он же не расставался со
своей трехлинейкой. Ползимы она была его падежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется
какому-нибудь полицаю...
Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее - как тогда нажать спуск?
Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не
121
оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону
вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они
наверняка куда-то отправлялись - возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что