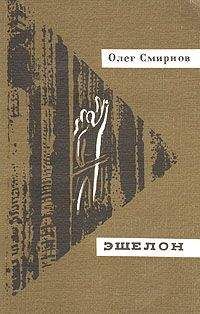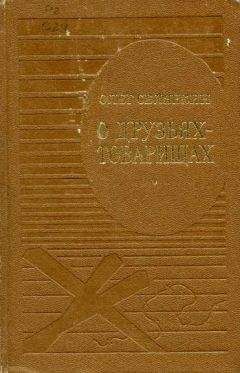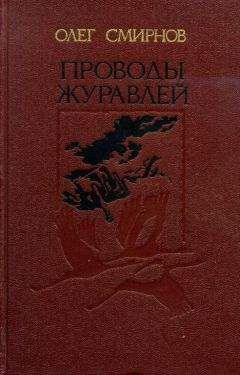Но из кустов на том берегу, расталкивая и подминая их, выполз танк, развернул башню с измалеванным крестом и номером, и пушка ударила туда, где был «дегтярь». Другой танк выполз к отмели, орудийная вспышка — и землю перед мысом тряхнуло, разрывы ближе и б лиже к яме, пятый снаряд рванул рядом. Карпухина отбросило к Бурову, оба упали на дно, комки земли забарабанили по спинам. А если осколки?
Буров лежал, прикрыв голову руками, автомат — под себя. Снаряды раздирали мыс то подальше от ямы, то вблизи. Буров отнял от головы руку, нащупал карпухинскую, пожал: я живой, а ты?
Земля за шиворотом, на зубах, тело затекло, судорога свела икру. Буров размял мышцу. Сколько же можно так валяться, уткнувшись рылом в лапник? Однако носа не высунешь, преждевременно погибнуть — глупо.
Когда звон, визг и грохот прекратились, Карпухин отряхнулся и оглядел винтовку. Буров высунулся, увидел: пока танк долбил, десантники высадились; развертываясь в цепь, они поднимались теперь по склону. Буров скомандовал:
— Огонь!
Автоматчики перебежками подходили все ближе. Буров и Карпухин швырнули гранаты. Автоматчики залегли. Хорошо, что залегли. Плохо, что справа не слышно ни «дегтяря», ни гранатных разрывов. Неужто другой танк стрелял метко, будь он проклят!
— Товарищ сержант!
— Чего тебе?
— Тяжко нашим, на заставе-то?
— Да.
— Ну и нам достается.
Оба повернулись к заставе, и оба выкрикнули:
— Ракеты!
Со стороны заставы, пронзая дым, взвивались ракеты: «Спешите на заставу!» Мы-то поспешим, да что же вы замешкались, дорогие? Конечно, при таком обстреле всяко могло обернуться, могли мы и вообще не дождаться этого сигнала. Буров наклонился к Карпухину:
— Отходим по моей команде!
— Есть!
Танк не обстреливал, видимо опасался угодить в своих; залегшие немцы строчили из автоматов и пулеметов, швыряли гранаты на длинных деревянных рукоятках; по низкорослому кустарнику до взвода слева и до взвода справа обтекали мыс. Хотят окружить? Буров выдернул из-за пояса гранату:
— Карпухин, канавой — в густняк, я за тобой! Прикрывая отход Карпухина, он бросил гранату, дал очередь и переполз в осушительную канаву, уводившую от мыса в лесную чащу. В канаве догнал Карпухина, затопал следом.
Канава была бросовая, неглубокая, по пояс, приходилось пригибаться. Сапоги чавкали по месиву, вонявшему затхлостью, стенки пачкали желто-бурым, как гной с кровью. Секли склонившиеся ветки, посвистывали пули, откуда и куда стреляют, не разбери-поймешь, позади автоматные очереди и крики «хайль», надо оторваться от фашистов, запутать их, сбить с толку.
Бежать было тяжело. Автомат колотил Бурова по груди, пот стекал по лицу, по шее, острая боль вступала в ушибленную коленку, дыхание саднящее; кажется, сердце колотится потому, что автомат бьет по грудной клетке. Буров поймал себя на мысли: думается ясно, и о пустяках думается, не только о главном, о войне, просто удивительно. И этой мысли он удивился и приказал себе: «Не растекайся мыслями, сосредоточься на главном».
В конце осушительной канавы с разбегу наткнулся на Карпухина, едва не сшиб его.
— Ты чего остановился?
— Нету мочи… выдохся…
Карпухин разевал рот, крутил шеей, словно выпрастывал ее из петли, царапал пальцами ворот гимнастерки. Буров подтолкнул его в бок:
— Нельзя задерживаться… Поглубже в густняк… там передохнем!
— Силов нету…
— За мной!
Он отстранил Карпухина, вылез из канавы и, припадая на больную ногу, побежал краем опушки. За спиною — дыхание Карпухина.
Подле родничка, во мшанике, Буров сбавил шаг, и теперь Карпухин чуть не сшиб его. Они стояли, переводя дух, отфыркиваясь. Желтая, с черными пятнами и крупная, как летучая мышь, бабочка пролетела меж их лицами. Бабочка? А мыши, что летали ночью, — когда это было? Давно, до войны.
— Угостимся, Саша, родниковой.
Сняв фуражку, Буров присел на корточки, колено заныло. Зачерпнул пригоршнями воду, от которой сразу заломило зубы. Попил, ополоснул лицо, намочил затылок. А Карпухин лег плашмя и не отрывался от воды.
Окунул голову и снова припал к струе. Буров выбил из фуражки пыль и сказал:
— Не обливайся.
Карпухин покрутил шишкастой, стриженой головой, пророкотал:
— Ох, пресвятая богородица, дева пречистая! Ох, здорово! Едри твою качалку, здорово!
Он выразился и покруче, виновато потупился. Буров распрямил плечи, нахлобучил фуражку.
— Товарищ сержант, извиняйте-прощайте. Сорвалось.
— Ладно, ладно.
— Поесть бы чего, — со вздохом сказал Карпухин. — Времечко-то к завтраку.
Завтрак? Кое-кто плановал: к завтраку вернемся из секрета. Порушились планы, разве, можно было их строить, в тот субботний вечер?
Ноги расслабленно дрожали, Буров прилег за пнем. Из ямки, смахивающей на сусличью нору, начали вылетать осы — земляные, наизлейшая осиная порода. Хотя добрых ос вообще не бывает. Как и добрых фашистов. Ты же про это был наслышан, Буров, а вот решил закрыть глаза? Так пацан прикрывает глаза, и ему кажется, что его уже не видно, опасность не угрожает. Самообманом занимался, Буров?
Осы кружили, улучая момент, чтобы напасть. Вон их сколько, не отобьешься, надо уходить. И на заставу надо поспешать, оклемались — и будет.
— Пошли, Саша.
Карпухин подтянул пояс еще на одну дырочку, забросил винтовку на ремень, зажевал папиросный мундштук. Буров пошарил по карманам, вытащил смятую, раздавленную пачку «Беломора». Карпухин протянул свою:
— Берите, товарищ сержант.
— Спасибо. А моя была непочатая, пропала, жаль… — И опять в голову пришло: «Черт знает о чем думаю!..».
Буров прикурил, затягиваясь и выпуская дым через ноздри. Частыми затяжками они докурили, и Буров приказал:
— Шире шаг.
— Сколь силов хватит, выложимся.
— Должны выложиться!
— Двинем Великим лесом?
— Да. Урочищем сподручней подобраться к заставе.
— Как думаете, хлопцы держатся?
— Еще как!
— А подмога не запоздает?
— Ни в коем разе!
— Мне писарь комендатуры по секрету болтал. Пятой армии по плану обороны полагается подходить к границе на третьи либо на четвертые сутки.
— Быстрей подойдет!
— Товарищ сержант, а немец-то все-таки угораздился напасть! Не сойдет это ему задаром, душегубу окаянному!
— Будь уверен: не спустим!
Перебрасываясь с Карпухиным отрывистыми фразами, Буров вслушивался в военные шумы. Все так же над Бугом канонада, но она будто раздробилась на отдельные очаги. Взрывы бомб и снарядов в городках особенно сильны. Ружейно-пулеметная стрельба отодвигалась на восток.
Карпухин плелся, не переставая, ругать немцев. Буров хотел сказать: «Отставить разговоры!» — и не сказал, убыстрил шаг. На заставу, на заставу! Два активных штыка — это что-нибудь да значит. С боеприпасами, правда, жидковато: пара гранат, магазин непочатый, остальные израсходованы.
— Карпухин, подсчитай свои боеприпасы.
— А на кой хрен? Патронов — штук тридцать, гранат — ноль целых ноль десятых.
— Да, жидковато у нас с тобой.
— На заставе разживемся.
Буров не ответил, прибавил шаг. Карпухин проворчал что-то о силенках, однако вскоре замолк, фыркал да отдувался. Жарко было и Бурову, соль разъедала ссадину на щеке, в коленке похрустывало и покалывало, он припадал на ногу. Сапоги вязли в зыбучем песке. В лесу было душно, застойно и мглисто.
С ревом низко пролетели на запад «юнкерсы», — с бомбежки, пустые. В урочище, у лесникова домика, пальба. Буров и Карпухин переглянулись.
Деревья разредились, в просветах — полоса просеки. Над ней висела пыль. Буров предостерегающе поднял руку. Они постояли, так и есть — на просеке движение, голоса. Пригибаясь, подобрались поближе. Раздвинули кусты.
Враги на нашей территории. Это поразило Бурова, как будто он не видал их, форсировавших Буг. Но то было у прибрежного мыса, а тут — подале от границы. Враги углубляются на нашу территорию!
Метрах в тридцати, у кромки, спиной к Бурову и Карпухину, белокурый ражий немец, запрокинувшись, пил из фляги, его товарищ, чернявый, длиннорукий, отвинчивал крышку термоса, наливал в пластмассовый стаканчик что-то коричневое, дымящееся — либо какао, либо кофе. Офицер с витыми серебристыми погончиками, с сигаретой похлопывал прутиком по карте, разостланной на спине согнувшегося солдата; другой офицер отдавал распоряжения пожилому фельдфебелю; тот тянулся по стойке «смирно» на немецкий манер — согнув и отставив локти, щелкал каблуками, рявкал: «Яволь! Яволь!» Офицер кривился, поправлял на животе кобуру. Связист с рацией на горбу косолапил вверх по просеке. Немцы кто в касках, кто в пилотках — у таких каски болтались на поясе; автоматы, ручные пулеметы, легкие минометы. На просеке несколько групп, в общей сложности штыков двести, а может, и поболе. Немцы. Но слышна и «мова»: