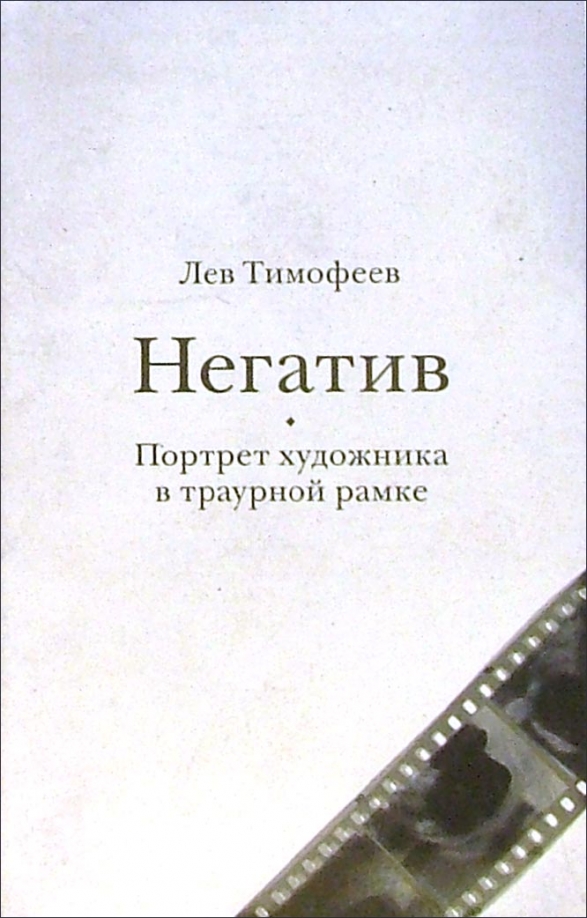русского на французский (вполне приличный у Карины), и, естественно, оказалось, что соседнее с ним место свободно, француз попросил ее остаться, и она осталась, забыв о подруге…
Приводивший всех в умиление роман русской красавицы со слепым французом длился весь первый семестр первого курса, влюбленные решили никогда не расставаться, и в письмах, передававшихся через знакомых во французском посольстве, родители слепого балалаечника (русофилы и коммунисты — отсюда и любовь сына к балалайке) уже называли Карину дочкой. Быть может, она и вышла бы за француза и даже уехала бы с ним, но на Рождество француз поехал домой, в Париж, и тамошние поборники прав человека уговорили его взять в Москву чемодан с двойным дном, куда запихнули пару сот экземпляров эссе академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Времена были суровые, но наивные парижские друзья решили, что уж слепому-то обыска на границе не учинят.
Еще как учинили! Его чемодан вспороли и выпотрошили, как рыбу на кухонном столе. Слепой попал в Лефортово, и следователь грозил ему семью годами лагерей строгого режима. Сначала парень держался мужественно и на допросах просто молчал. Но родители во Франции были совершенно убиты и послали ему (а следователь, конечно, дал прослушать) аудиописьмо, где и они сами, и те парижские друзья, что нагрузили его рискованным поручением, слезно молили сотрудничать со следствием и рассказать все как было. Он и рассказал. Среди прочего рассказал и то, что получателем груза должен был стать папа Карины, известный биолог, академик ВАСХНИЛ и член-корреспондент «большой» Академии Леонид Молокан, человек, близкий к диссидентам и к самому Сахарову. Ну, а сама мысль дать французу поручение возникла только постольку, поскольку он был близок с Молокановой дочкой Кариной и был своим человеком в семье.
Француза отпустили домой, но он так перенервничал, что совершенно разлюбил и Россию, и балалайку, и русскую невесту. Или просто понял, насколько опасна такая любовь («Опаснее незащищенного секса», — резко выразилась Карина; она так никогда и не простила эту обиду). По крайней мере Карина больше не получила от него ни строки, и телефон его родителей молчал (вышли ли они из коммунистической партии — неизвестно).
Академика Молокана в очередной раз вызвали в КГБ, где ему в очередной раз строго попеняли и предупредили, что он ходит по краю пропасти. С ним дело пока на том и успокоилось. А вот Карину пришлось спасать: «по каналам КГБ» на факультет поступила соответствующая информация, ее должны были прорабатывать на комсомольском бюро, и если и не исключить из комсомола и института, то (конечно, только при ее полном покаянии) объявить ей строгий выговор.
Родителей Карины испугала даже не эта предстоящая, сама по себе омерзительная ритуальная расправа. Оказалось, что факультетский секретарь парткома возжелал красавицу Карину и прямым текстом объяснил ей, что придержит дело на тормозах, но только если она переспит с ним. «У меня не хуже, чем у француза», — сказал он, спокойно глядя ей прямо в глаза. А нет, так раскрутит все на полную катушку, вплоть до обвинений в валютной проституции.
Папа Молокан, сам человек отважный, подвергать дочь диссидентским опасностям не хотел. «Мы не будем драться с этой системой собственным ребенком», — сказал он. И было решено, что Карина подаст заявление и тихо исчезнет и из университета, и из Москвы. Девочку отправили в Черноморск, где много лет профессорствовал старший брат Леонида, историк Григорий Молокан. Дядя Григорий просил за Карину лично, ректор был его учеником (да и кандидатскую за ректора, партийного выдвиженца, написал в свое время именно Молокан, — а предстояла еще и докторская), и девочку взяли даже без потери года — на второй курс (Закутаров в тот год поступил на первый).
До похорон Христианиди, а он умер в середине апреля, Закутаров не разговаривал с ней, должно быть, месяцев шесть или семь. Все знали, что она как-то скоропалительно вышла замуж за белокурого красавчика, московского актера, снимавшегося на местной киностудии в какой-то шпионской муре, и жила с ним в гостинице. В университете она появлялась редко, он видел ее издалека, но теперь уж даже и не подходил… А вот с Суреном Христианиди он подружился. Главным редактором тот уже не был и стал сильно пить. Его уволили и чуть не исключили из партии за почтовую переписку с кем-то из столичных умеренных полудиссидентов, — кажется, с Леном Карпинским или Роем Медведевым, — и с тем, и с другим он был знаком много лет. Сам Сурен сильно подозревал, что дело было не в Карпинском (или Медведеве), а в том, что понадобилось расчистить место для зятя секретаря обкома: зять был в газете ответственным секретарем, и как только отстранили Христианиди, именно он и сел в редакторское кресло (а не зам. главного, как следовало ожидать по субординации).
Сурен знал, что говорит, и знал, как делаются такие карьеры: он и сам прежде был Зятем — именно зятем с большой буквы, — поскольку тестем его был не какой-нибудь там секретарь обкома, а член Политбюро. Но, увы, Христианиди карьеры не сделал. Способный журналист, после журфака МГУ (и женитьбы) он довольно быстро уехал собкором «Известий» в Прагу, вернувшись, за три года дослужился до завотделом в тех же «Известиях». И стоп! Дальше дело не пошло. У него был только один, но существенный недостаток: он уже тогда сильно пил. Сколько-то времени его терпели и все ему прощали, не только как Зятю, но и за несомненный талант — и журналистский, и организаторский, — и за мягкий, компанейский характер.
Только во времена чехословацких событий 68-го года, когда по какому-то вопросу (впрочем, не самому существенному) он воздержался при голосовании (а все, как и следовало, проголосовали «за»), терпение начальства лопнуло (тем более что и брак его уже близился к финалу). Но все-таки его не выгнали вчистую, а после назидательной беседы на Старой площади нашли место в Черноморске, откуда он был родом, и перевели «по состоянию здоровья», которое и вправду было катастрофически плохо. (Кстати, поэтому, видимо, и черноморское начальство не решилось слишком уж раскручивать его дело: если в ЦК, где хорошо знали об алкоголизме Христианиди, решили, что формула «по состоянию здоровья» наиболее подходит, то и здесь на месте самодеятельность посчитали недопустимой. Все-таки Зять, хоть и бывший.)
После отстранения от должности Сурен стал часто заходить к профессору Молокану (Карина теперь жила на стороне и дядю навещала время от времени). Еще подростком он дружил с детьми профессора и был своим человеком