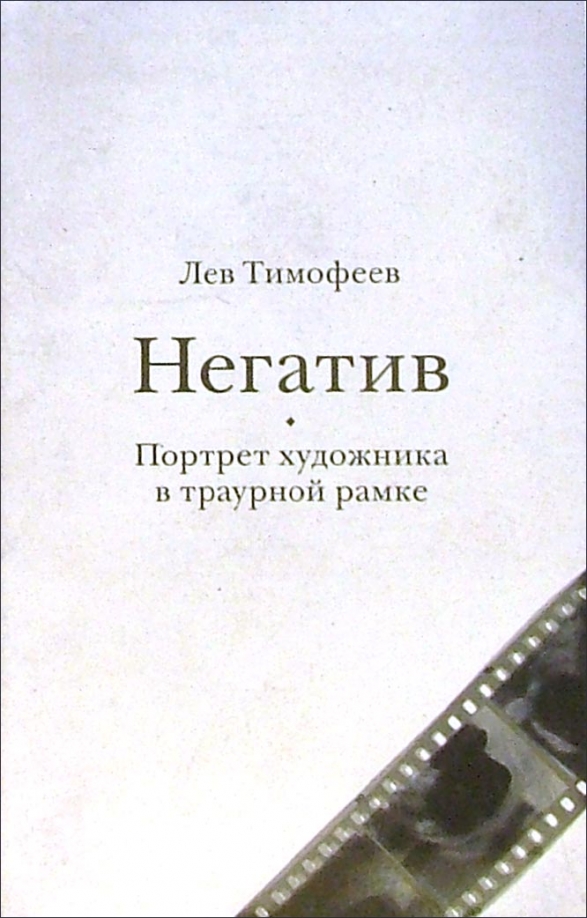в семье. Ревекка, для которой Суренчик, сверстник ее младших детей Радика и Эрленочки, хоть и был он огромен, сутул, гориллообразен, навсегда оставался ребенком, стремилась приготовить ему что-нибудь вкусненькое, например когда-то любимые им «синенькие» — тушеные баклажаны, фаршированные морковью и перчиками (в памяти она держала свою особенную «поваренную книгу» — любимые блюда всех, кто жил или бывал гостем в ее доме за все пятьдесят, без малого, лет супружества. Для Кариночки, например, она каждое лето варила три литровые банки варенья из розовых лепестков). Увы, Сурен ничего не ел, и после того, как два раза заботливо приготовленный ужин остался почти не тронутым, она, чтобы не показаться назойливой со своими угощениями, перестала специально готовить к его приходу.
Нет, Сурен не поужинать приходил, не в гости: он приходил, чтобы спасти профессора, освободить его от опасной идеи. В последнее время старый Григорий Молокан, крупный специалист по истории партии, стал всерьез обдумывать, как следует реформировать аппарат КПСС, прогнивший, по его мнению, сверху донизу. Он считал, что реформы («восстановление ленинских корм») возможны и необходимы, и даже готовил по этому поводу какую-то развернутую справку для ЦК. Вот это как раз и пугало Сурена: чего доброго, профессор и впрямь отправит свои реформаторские бредни в Москву, и кончится это, в лучшем случае, потерей кафедры, а в худшем — выгонят с работы, да еще и посадят на старости лет. Навсегда потрясенный жестоким подавлением «пражской весны», Христианиди наверняка знал, что никакие реформы невозможны: в этой стране надо все ломать к чертовой матери — и строить заново. И прежде всего ломать, демонтировать, распускать — называйте это как хотите — аппаратную структуру правящей партии.
Вести такие разговоры открыто люди тогда опасались, и как только Христианиди входил в квартиру, профессор, с нетерпением ждавший его, поскольку другого такого собеседника (и собутыльника) у него не было, плотно закрывал окна, задергивал портьеры и пускал воду — и в ванной, и в мойку на кухне, — чтобы создать звуковые помехи. Беседовали в столовой за круглым столом под вечным оранжевым абажуром. Говорили вполголоса. Какие-то особо опасные высказывания, по настоянию профессора, писались на специально приготовленных и прикнопленных к фанерке листках бумаги. Прочитав написанное, листок сжигали тут же, в пепельнице. Например, один писал: «Читали ли вы «1984» Орвелла?» Другой писал в ответ: «Читал». Пауза. Листок сжигается. В те времена признаваться вслух, что читал Орвелла, и вправду могло быть небезопасно.
Впрочем, по мере того как бутылка опорожнялась, о предосторожностях забывали, беседа становилась все громче и громче, и бывало, что профессор, вовсе уж забывшись, кричал своему оппоненту, что тот безответственный левак: «В России нельзя делать резких движений! Представьте, что будет, если эта громада закачается и начнет рушиться! Всему человечеству не поздоровится». Христианиди мотал головой и хрипло и громко хохотал, жестами показывая, что профессора слышно и наверху, и внизу, и на улице. Он любил эту семью — и сурового с виду (насупленные густые брови обманывали), но по сути доброго и простодушного профессора-ленинца, чьи семинары посещал здесь в Черноморске еще десятиклассником, и его знаменитого брата, глядящего на вещи куда более трезво (во всех смыслах), — с ним он был дружен в Москве; ну и, конечно, профессорову племянницу, которую знал еще ребенком и которая уже здесь, в Черноморске, в какое-то время так прочно обосновалась в его одинокой жизни, что пришлось решительно обрубать эту связь, — «дабы не наделать еще больших глупостей», — так он сам ей объяснил.
В какой-то вечер, когда в бутылке уже оставалось совсем немного, они за громким спором и шумом воды, видимо, не услышали звонок в дверь, и старая Ревекка неожиданно ввела в столовую любимого профессорского ученика, третьекурсника Закутарова, которого профессор, подчеркивая свое уважение, тут же представил по имени-отчеству — Олегом Евсеевичем. Закутарову в этом почудилась ирония, и он несколько смутился. Но еще больше он смутился, когда сильно сутулый, почти горбатый, но все равно очень высокий Христианиди встал, навис над ним, и как бы сверху вниз протянул руку, и сказал, что хорошо его знает — по фотографиям несчастного Кукуры: «Серия «Олег» — лучшее, что он сделал». Тут уж Закутаров и вовсе залился краской. И даже выпил налитую ему рюмку, хотя прежде, когда, бывало, профессор предлагал, говорил, что не пьет спиртного.
Они ушли от профессора вместе и еще зашли посидеть (Христианиди пригласил) в припортовом кафе, где Христианиди знали и у него даже был свой любимый столик с видом на акваторию торгового порта, откуда видно было, как в сумерках перемещаются желтые, красные и зеленые огни портовых буксиров и рейдовых катеров. Но в этот раз Христианиди сразу задернул штору: была зима, в окно сильно дуло, а он и так уже еле таскал ноги. Ни рюмок, ни фужеров в этом кафе не было, и коньяк они пили из тонких стаканов, наливая по трети, — и говорили о Куку-ре, у которого не было близких родственников, и поэтому о его судьбе ничего не было известно, жив ли. «Но все равно, за него будем пить во здравие. Великий человек!» — сказал Христианиди, и они выпили.
Нет, не выпили: Христианиди не пил, как обычно пьют — налил, выпил и закусил, — он постоянно мелко прихлебывал и ничего не ел, попивал коньяк, как за беседой неторопливо попивают чай, мог бы и ложечку в стакан опустить. И больше уже не произносил тостов и время от времени как-то очень обыденно, совсем не ритуально, словно из чайника, подливал себе из бутылки, предлагая Закутарову, только если у того в стакане было пусто.
Говорили о фотоискусстве, и оказалось, что Христианиди знает в этом толк. Еще студентом он написал исследование о художественных принципах Родченко-фотографа («неожиданный взгляд на неожиданную ситуацию»). В те же годы подружился со стариком Петрусовым, несколько угрюмым строгим профессионалом, другом Родченко. В 65-м Христианиди схлопотал выговор, когда, не предупредив начальство, за сутки сгонял на машине из Праги в Берлин и обратно, чтобы обнять старика на открытии его персональной выставки, означавшей европейское признание. Работу Петрусова «Солдаты в касках» (1935 год, Германия) он считал самым точным портретом эпохи: «Ряды, ряды страшных железных затылков — и ни единого лица!» Работая в Праге, Христианиди ходил на все подпольные фотовыставки и пил со всеми лучшими фотографами. Его и отозвали после того, как он неделю, не просыхая, гудел с никому не известным тогда Саудеком. (Впрочем, и в начале семидесятых этот мастер еще никому не был