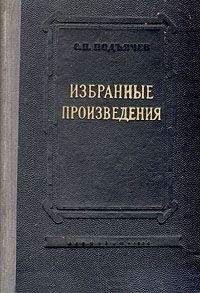А после того, как «разогнали» и вторую Думу и собрали «господскую» третью, Иван Захарыч окончательно, по его мнению, уразумел, в чем дело, окончательно потерял всякую веру в Думы и ругал их на чем свет стоит.
Выскочив под вой и ругань Химы во двор, Иван Захарыч постоял несколько времени, прислушиваясь к неумолкающему крику, несшемуся из хаты, и с тоской и кружением в голове начал набирать вторую охапку дров «для подкидки».
Его тошнило, и он чувствовал, как все у него и внутри, и снаружи дрожит и трясется… Он силился восстановить в памяти, что было вчера, но не мог припомнить, так как был сильно пьян и все «заспал»… Какая-то смутная тоска вместе со злостью на самого себя ныла в его душе. Что именно он орал спьяну, — он не знал, но чувствовал, что, наверно, орал нечто такое, чего орать вовсе бы не следовало.
— Э-эх, — вздыхал он, набрав охапку дров и неся ее к двери, — натворил я, небось, чудес. И чорт меня догадал язык распускать! О, господи, владыко живота моего… тоска-то, а?..
Он вошел в избу и, стараясь не шуметь, положил потихоньку новую охапку на пол. На шестке у Химы стояла лампочка, освещавшая шесток, чело, печурку сбоку и бросавшая свет внутрь самой печки, куда Хима, страшная, неумытая, простоволосая, влезая чуть не на половину, укладывала в клетку дрова…
— Чего ж ты стал-то, — набросилась она на Ивана Захарыча, — как пень горелый… Делал бы что-нибудь…
— Да что делать-то?.. Делать-то нечего…
— На вот, коли лучину… лешман… мучитель!..
Иван Захарыч накалывает лучину и, сделав это, опять не знает, куда себя пристроить.
В оконцах, между тем, начинает белеть…
— Свет, — говорит он, — разбудряет…
Хима молчит и, уложив дрова, подсовывает под них лучину и затопляет… Иван Захарыч стоит и тупо, мутными глазами глядит, как огонь охватывает сперва лучину, как она коробится, трещит, как начинают потом «заниматься» дрова, как стелется по печке и выходит сквозь чело в трубу темносерый густой дым…
— Тоска!..
Начинают просыпаться дети… Одна девочка плачет… Хима подходит к кровати, ощупывает плачущую, перепуганную девочку, перезябшую, трясущуюся худеньким тельцем и вдруг кричит во всю глотку:
— Ты, стерва, опять, а? Ты, сволочь проклятая, опять!.. Где я на вас белья-то напасусь, а?.. Двадцать у меня рук, что ли, стирать на вас, сволочей… разорваться мне… Ах ты, стерва!.. Вот тебе, вот тебе! У-у-у! дьяволы проклятые!.. Му-у-чи-тели!..
Девочка плачет сильнее и еще больше трясется… Хима сдергивает с нее мокрую рубаху, похожую на грязную тряпку, и несколько раз бьет девочку, крича при этом так, что звенят стекла:
— Молчи!.. Молчи, я тебе говорю, стерва, запорю, молчи!.. А-а-а, ты не слушаться!.. Ты не слушаться!.. Вот тебе! вот тебе! вот!
— Да будет тебе, — говорит Иван Захарыч. — Ну, что ты ее… нешто она нарочно… она сама не рада…
И, отстранив Химу, он берет трясущуюся девочку на руки, укутывает одеялом, садится на табуретку и начинает ласкать, приговаривая:
— Не плачь, доченька, не плачь, матушка… Эна, гляди, какая борода-то у меня… эна, гляди! Не плачь, матушка, не плачь, доченька… Я тебе ужо конфетку принесу… вот эдакую… ей-богу… не плачь, нишкни!..
Между тем, дрова в печке разгораются все шибче… Нагорают уголья… Хима разводит ими самовар и ставит в печку чугун с картошкой…
— Мука вся на исходе, — кричит она, — ещё на одни хлебы — и вся… Пьянствуй больше! Скоро доведешь до сумы с Думой со своей… Хошь бы тебя, чорта, поучил кто хорошенько, ей-богу… бока бы помяли… Может, перестал бы тявкать-то… Нажрется винища, вылупит бельмы-то свои поганые, совиные и орет, не знамо что… Это нехорошо, да это не так… Глупей его, ишь, начальство-то… Ах ты, зверь живодамский… молчал бы уж, как таракан в щели… Погоди, дождешься, погоди… Будь я сукина дочь, коли тебе бока не намнут… И хорошее бы дело, ей-богу, рада бы я радешенька была…
Иван Захарыч молчит, лаская припавшую к его груди девочку, слушая, как бьется у ней сердчишко — тук, тук! тук, тук! точно кто-то стучит у ней там в груди маленьким молоточком… Она всхлипывает все реже и реже, реже вздрагивает худеньким тельцем…
Ему вдруг делается нестерпимо жалко эту девочку, других детей, себя самого, всех… Он чувствует, как к горлу лезут слезы и душат…
«О, господи, владыко живота моего, — мысленно восклицает он: — что ж это за жизнь такая!.. Тоска-то, господи, тоска-то, тоска-то!..»
Выпив две чашки жидкого, пахнущего мылом чая, Иван Захарыч принимается за дело… Начинает «чинить» какую-то старую, развалившуюся, облупленную этажерку… Дело у него не спорится: трясутся руки, кружится голова, и то замирает, то начинает необыкновенно громко и часто, с перебоями, стучать сердце… Хима возится около печки, стуча ухватами, кочергой, ругается и то и дело харкает со злости куда ни попало…
Работая, Иван Захарыч, беспрестанно поглядывает на часы. Еще рано, только десятый в начале… До прихода поезда еще далеко, а раньше двенадцати уйти нельзя… неловко… Иван Захарыч сознает, что он виноват, и что уйти ему раньше никак нельзя.
«Загрызет, — думает он, — съест, как узнает, что я все денежки ахнул… О, господи, а ведь узнает! И дернул меня чорт!.. Неужели же не похмелят?.. Кажись, я вчера, слава богу, не жалел, всем подносил? — задает он себе вопрос я сейчас же отвечает на него: — Поднесут… не такие люди… Ох, да и начудил я, небось, — на возу не увезешь…»
Медленно, аккуратно, как-то даже осторожно, точно охотник под сторожкую птицу, двигаются, ползут на часах стрелки. Десять… одиннадцать…
«Слава богу, двенадцатый скоро! — думает Иван Захарыч. — Пущай орет, а я уйду… Издыхать мне теперича до вечера-то…»
Хима начинает собирать на стол обедать… Кидает деревянные ложки, режет во весь хлеб большой ломоть, разделяет его на несколько равных частей по-монастырски, порциями, или, как там говорят, «укрухами», и, налив из чугунчика в глиняную, облупившуюся большую чашку похлебки, ставит ее на стол и кричит:
— Обедать!.. Кто жрать хочет, садитесь…
Иван Захарыч не хочет. Бросив работу, он свертывает курить, идет к двери, приотворяет ее немного, в образовавшуюся щель пускает дым и беспрестанно плюет.
— А ты что же? — спрашивает у него Хима.
— Не хочется что-то… аппетиту нет.
— С осени закормлен!.. Нажрался вчерась… Что ты над собой делаешь-то? Кому ты на зло делаешь-то? Удивишь кого, что ли?.. Кому нужда-то… Смеются над дураком… Вон Платоныч проходу не дает, смеется. За каким чортом тебя к нему намедни занесло-то, а? «Пристал, гыт, с разговорами про Думу, про господ… Никак, гыт, не отвяжусь… Кричит, гыт, ругается… Такие слова произносит, индо, гыт, страшно слушать, волос дыбом встает»…
— Чо-о-о-рт! — перестав хлебать и положив ложку на стол, говорит она, — чего она тебе, эта Дума-то, далась, а? Взял бы ты в голову свою дурацкую: на что, мол, она мне?.. Ду-у-рак ты, наше ли это дело, нам ли за господами гоняться?.. Мало ли они чего там с жиру-то придумают, и нам, значит, надо?.. На смех себя поднимаешь… Надоел всем… Допрежь, бывало, выпьешь — и все ничего, а теперь точно чорт на тебя сел, чисто сатана какая… вылупит бельмы… орет… тьфу!
— Ну, я пойду, схожу тут в одно местечко, — как-то особенно торопливо, не глядя на Химу, говорит Иван Захарыч, поспешно снимая с гвоздя грязный картуз. — Вы обедайте, а я сейчас…
— Куда? — вопит Хима: — Опять! Истинный господь, не пущу! Что ж это за мученье за такое, а?.. Не пущу!.. Сиди дома, не пушу!..
Она схватывает Ивана Захарыча за рукав и старается оттащить от двери, за скобку которой он крепко-накрепко уцепился левой рукой, а в правой зажал скомканный картуз,
Зная по опыту, что Хина, первым делом, постарается отнять его… А без картуза итти неловко.
— Пусти… я сейчас…
— Не пущу… опять нажрешься…
— На вши, что ли?..
— На-а-айдешь!.. Найдешь, сволочь ты этакая, на-а-а-й-дешь!.. Ну, иди! Ну, иди! — с визгом и со слезами в голосе еще шибче начинает вопить она и сама толкает Ивана Захарыча за дверь. — Иди, чорт с тобой, иди!.. Издыхай там где-нибудь… Вот тебе, кха! тьфу! в рожу в твою поганую… утри-ся… Вот тебе еще… на!
Она ударяет его кулаком в подбородок и выталкивает за дверь…
— Издыхай, — не пущу, сволочь, му-у-читель!..
— Ори теперича, лайся сколько влезет, — говорит Иван Захарыч, очутившись за калиткой на улице, — а я вот он!.. Возьми меня теперича!.. На-ка, вот, выкуси!
На улице пустынно, серо, необыкновенно тоскливо. Косой холодный дождик пополам с крупой, какими-то неровными порывами, точно из частой лейки, поливает улицу, превращая ее в едва проходимую топь…
Подтянув повыше к коленкам заскорузлые, грязные, опустившиеся голенища и нахлобучив по самые уши выцветший серый картуз, Иван Захарыч, не обращая внимания на грязь, идет привычной дорогой, держась около заборов, предвкушая наслаждение «опохмелиться»… Пройдя улицу, он свертывает в переулок и идет мимо казарм, низкого, желтого, вонючего здания… В одном из окон этого здания, с какими-то фиолетовыми, мокрыми стеклами, открыта форточка. Через нее вырывается наружу пар, и слышно басистое пение многих голосов с ударением по-владимирски на о: