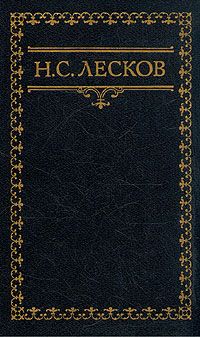– Где ж там! Борони Боже, – вмешался извозчик, – это вот только около дороги.
– А дрова?
– А так само и дрова.
– А в середине леса ничего?
– Да что ж там будет? Ничего.
Из с. Беловежи мы выехали поздно. Как начали собирать лошадей, так и собирали до одиннадцати часов ночи. Яичница никуда не годилась, и есть было нечего. Надпись, находящуюся на обелиске, поставленном в Беловеже в воспоминание избиения зубров королем польским (кажется, Станиславом Августом) и его сотрудниками, не мог списать, потому что было уже темно, а надпись, высеченная на сероватом камне, хотя и совершенно ясна и свежа, но в сумерки читать ее довольно трудно. От Беловежи к д. Кивачам (как называют ее здешние крестьяне), или Кивачина (как значится на плане Беловежской пущи), дорога идет лесом, необыкновенно густым и рослым.
Самая дорожная просека здесь гораздо уже, и есть места, где со всех сторон охватывает непроглядная, могильная тьма. Узкая, но длинная литовская фурманка, приспособленная здесь для возки жита и соли, идущих с юга, через Пинск, к Белостоку, очень удобна для езды одному, но вдвоем на ней сидеть невозможно; а мы, по неопытности своей, на одной фурманке отправили вещи, а сами уселись вдвоем на другую. Пришлось попеременно сидеть друг у друга в ногах. Взглянув вверх, на узенькой полоске неба я увидел звезды: в лесу было тихо и тепло, но звездный свет не доходил к нам, и небо мы видели, как из глубокого колодца. В одном месте, с правой стороны, вдруг сквозь деревья показалась поляна.
– Что это? – спросил я извозчика. – Луг?
– Болото.
Действительно завиднелась кое-где вода, и послышался легкий шелест болотных трав.
– А велико это болото?
– Скрозь.
– Как скрозь? Разве и с левой стороны болото?
– Болото, – отвечает литвин бесстрастным голосом.
– И мы едем по болоту?
– По болоту.
– Что же это, гать, что ли?
– Гать.
– А по оба бока болото.
– Болото.
– Зубры тут ходят?
– Что им делать в болоте?
– А лоси?
– Лось любит болото.
– И не тонет он?
– Нет.
– А дик? (кабан – по-польски dzik).
– Дик везде.
– И к болотам ходит?
– Больше около дубу. Желуди жрет.
Что-то треснуло и зашумело в лесу.
– Зверь? – спрашиваю я извозчика.
– Зверь.
– А какой зверь?
– А кто его знает.
Нет, с этим не разговоришься. В Кивачи приехали ночью и остановились у избы «пана совестного». Изба чистая, светлая, стены вверху выбелены, а в рост человека просто чисто выскоблены. Печка выбелена не мелом, а белою глиною. Побелка очень чистая. На загнетке горели кусочки смолистого корня. Свет довольно ярок, но красноват и беспрестанно мелькает. Березовая лучинка, как ее приготовляет мордва в Пензенской губернии, на мой взгляд, светит несравненно лучше. Впрочем, «пани совестная» объяснила мне, что во время прядева или другой ручной работы изба этими же смолистыми кусками освещается иначе. Она взяла несколько щепок распиленного корня, зажгла их и положила в крошечный каминок, устроенный в угле печки: изба осветилась так, что можно было прясть и шить в нескольких шагах от каминка. Каминок особым узким рукавом соединяется с трубою выше вьюшки, и дым от горящих для освещения щепок уходит в трубу, не унося с собою теплого воздуха из избы. Пан и пани «совестные», три девочки, которыми благословен их супружеский союз, и работница, довольно красивая девушка лет 18-ти, имеют вид здоровый. Глаза у детей чистые голубые, и ни малейшего признака колтуна или болезни век, которые так нередко встречается видеть у литвинов, живущих в курных избах. Пан «совестный» все хлопотал: послал за лошадьми и за пивом, которого мы просили купить у еврея, а пани «совестная» и ее работница сели против нас на лавочку. Я нарезал галяреты проснувшимся детям, из которых старшее имеет не более пяти лет, и они, с полуоткрытыми глазенками, начали уплетать, чавкая ртом громче одной известной мне энергической украинской дамы. Пива на гривенник принесли такую массу, что мы сами выпили, попотчевали хозяев; я напоил девочек, из которых одна, с белыми волосами и черными глазенками, выпила два стакана, и все-таки пива осталось. Пиво слабое, как русская брага, и на брагу похоже и вкусом, но пить его при жажде очень приятно. Работница у пана «совестного» живет «из милости», т. е. из-за прокормления и одежи.
– Что же так дешево? – спросил я девушку.
– А так, бо у нас дешево, – отвечала она, грустно надпираясь рукой.
– Ты сирота, верно?
Девушка утвердительно кивнула головою.
– Ни отца, ни матери нет?
– Мать умерла, – так же грустно продолжала сирота.
– А отец?
– Отца не было, – отвечала она с полувеселою, полуироническою улыбкою.
– Верно, мать солдатка была?
Девушка опять утвердительно кивнула головою.
– Что ж, тебя никто не сватает?
– Никто.
– Ты ж такая хорошая, красивая.
Девушка слегка зарумянилась, утерла рукавом нос и сказала: «Ну, дак что ж?»
– Чего ж на тебе не жениться?
Девушка молчала.
– А ты пошла бы замуж?
– Разумеется, пошла бы. Надоело уж чужие кутки-то (углы) обивать, – отвечала она, с постоянным выражением грустной иронии.
– Может быть, Бог даст, выйдешь, – сказал я, чтобы сказать что-нибудь.
– Может, знайдется такой же до пары, да и поберутся, – промолвила «пани совестная» с чувством некоторого достоинства.
– А хозяйский сын будто уж и не может на сироте жениться?
– Чего не может! Только посаг (приданое) все ж таки какой-нибудь нужно.
– А Бог с ними, те хозяйские сыны! – резко сказала девушка, соскочила с лавки и стала поправлять горевшие лучинки.
– А бедному жениться, так и ночь коротка, – сказал я, вспомнив малороссийскую пословицу.
– А так, пане, – серьезным тоном заметила хозяйка.
Девушка пристально стояла у огня, сложив руки на молодой, очень красиво очерченной складками белой рубашки груди, и ни слова не сказала. Только по тонким устам ее милого, свежего и немножко хитрого личика снова промелькнула ироническая улыбка.
«Пан совестный» вошел с пятью крестьянами, т. е. с двумя извозчиками, которые нас привезли из Беловежи, с двумя, которые должны везти из Кивачина до Шерешова, и десятником, наряжавшим подводы. Мы заплатили прогоны за дорогу от Беловежи и дали по злоту на водку. Мрачный и бесстрастный литвин, от которого нельзя было дорогою добиться слова, прояснел и стал рассказывать, как разложены наши вещи. Десятнику дали гривенник. Выходя из хаты, я дал двугривенник на ленту Олесе, сироте, с которой беседовал, и не успел спрятать руки, как она неожиданно ее поцеловала.
– Выходи замуж, – сказал я, прощаясь с нею.
– Спасибо пану на добром слове, – отвечала она.
—
По одному ехать на фурманке очень удобно: сидишь между колесами, не трясет, и не рискуешь беспрестанно выпасть. На эти фурманки здесь ставят по две бочки сала (Low), и еще напереди остается место погонщику; но они, как я уже сказал, очень узки. Мой новый возница, молодой парень лет 22-х, с длинными волосами и довольно приятным, хотя и бесцветным лицом, беспрестанно ежится в своей худой свитке.
– Холодно! – проговорил он, громко крякнув.
– А разве у тебя нет ничего потеплее?
– Есть.
– Чего же не надел?
– Так, не надел.
Прошла маленькая пауза.
– Волк! волк! – весело крикнул возница.
– Где ты его видишь?
– Вон! вон! – отвечал извозчик, указывая ручкой бича влево от леса, к которому приближалась наша дорога.
Я стал вглядываться и вскоре очень близко увидал темный силуэт волка и его сверкающие глаза. Зверь стоял смирно, повертывая только одну морду, а сам не шевелился.
– Ишь, гадина, как насмелился! И не трогается даже, – сказал извозчик. «Уло!» – крикнул он. «Уло!» – повторил он опять. Волк стоял по-прежнему. «Видите, какая анафема! Не боится».
Волк, действительно, как будто не обращал внимания на крик и стоял спокойно; только сверканье двух светящихся точек свидетельствовало, что он беспрестанно озирается на все стороны и не упускает из вида своего стратегического положения.
– А много тут волков?
– Пропасть.
– Лесные офицеры их стреляют?
– Стреляют, да все-таки их пропасть.
– А медведей?
– Теперь вот что-то не видать, а то были.
– Много, чай, скотины перепортили?
– Портили; ну, все волки проклятые больше портят.
– А зубров?
– С медведем зубру нипочем. Он ему враз (сейчас) отобьет смелость. Ему вот волки, так беда.
– Отчего ж волк хуже медведя?
– Медведь один идет на зубра – что ж он ему сделает? А волки проклятые стадом, так и облепят: тот за ляжки, тот за брюхо, все сзади, зубр их таскает, таскает, пока упадет; тут ему и смерть.
– И много они их так губят?
– Должно, немного, а таки губят.
– Кости видаете иногда?
– Трафится (случается), часом видишь, ну, только редко.
– И медведь-таки последний, вот, что убили стрелки, задрал одного здоровенного зубра, – сказал извозчик, входя «в пассию», как называют курские дамы неудержимое словоизвержение, которым они жестоко страдают, либо от тускарьской воды, либо от раков из Сейма.