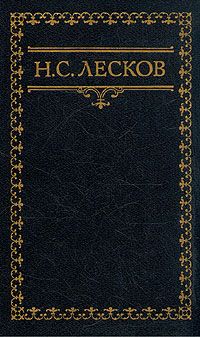– Почему же ты это знаешь?
– Видела вся наша осока.[20]
– Что же видела осока?
– Прежде еще мы видели этого медведя и все уж было приготовили, чтоб идти на него, а он и задрал зубра.
– Почему же вы думаете, что это он задрал?
– Видать по деревьям, как он залез на дерево и сидел там, караулил.
– Это вы догадываетесь?
– Видно, как лез вверх и как оттуда прямо на горб ему (т. е. зубру) так и прыгнул, так и засел. Деревья, сучья, все кругом от того дерева, где он сел, все поломано. Иные деревца-таки здоровые, толстые так и выхвачены. Это он лапой хватался, хотел сдержать зубра-то, а по иному по старому древу так по коре так когтищами и процарапал. Далеко, далеко он его катал, а тут уж, видно, умаялся, и косточки его и теперь так лежат.
– Большой был зубр?
– Двое между рог сядут, и еще просторно.
– А медведь?
– Не видал, как его убили. Лихорадка меня в это время трясла, а другие говорят, большущий зверь.
– А волки, видал, как гоняют зубров?
– Нет, сам не видал.
– Да ты зубра-то видал ли? – спрашиваю я шутя. Литвин рассмеялся.
– Что, видал?
– Да мы же осока! – отвечал он сквозь смех.
– Так часто видите?
– О, часто.
– И не боитесь их?
– Как старика встретишь, так прячешься.
– Чего же прятаться? Он ведь не бросается.
– Все лучше, как сховаешься (спрячешься) или на дерево взлезешь.
– Разве он когда бьет человека?
– Дядю моего, лет пять будет, крепко напугал.
– Расскажи, пожалуйста.
– Несет дядя домой плетушку, а дело к вечеру. Несет, а глух тоже был покойник: не слыхал, как зверь-то подошел, а он подошел да как ткнет в плетушку, так и взвилась. Дядя упал – старый человек был, – упал и лежит; опомнился, поднял голову, а зубр его плетушку знай подкидывает, да как увидел, что дядя поднимается, опять к нему. Ни жив ни мертв дядя. Зубр подошел и ну его обнюхивать. Дядя так и ждет, что вот поднырнет рогами, да и на цментарж (на кладбище) закинет. Аж он, черт этакий, понюхал, понюхал, посопел, лизнул его раза с два, и да и опять к плетушке, ну ее опять метать.
– А дядя же?
– Помаленьку уполоз в куст, да со страха так старый и вскочил на сосну; целую ночь там просидел, пока наши ехали, так закричал им. Совсем было помер со страха.
– А не вез он часом москаля со страха?
– Як кажете?
Малороссийской поговорки здесь не понимают.
– Не врал дядя? – спрашиваю я снова.
– Ого, врал! Не такой был человек, чтоб врать.
– Чего ж зубр плетушку-то кидал: сердился или играл?
– Потешался. Они ведь охотники забавляться. Иной раз возьмутся бороться – Боже мой! – только стон стоит, трещит все кругом. Заденут рога за рога, как только не сломят.
– А может быть и ломают?
– Нет, не ломают. Як бы ломать, то уж лучше б он иной раз роги поломал, чем жизни решиться, и не поломает бидак.
– Не понимаю я, что ты говоришь.
– Эге! Не понимаете. Вот, как куска стоит.
– Какая куска?
– Куска, куска, что летом по лесу стоит… маленькая такая, тучами так и ходит.
– Комары, что ли?
– Эге, комары, комары. Ух, да и допекают же они зубров! Волк или медведь теперь еще может часом сделать что-нибудь тому, что «поедынче» (отдельно) ходит, а стаду нет, у них хоть их сколько соберись, не выкусят а ни клока. А куска как настанет, так так доймет их, что они иначе бешеные, аж стогнут, землю роют, выйдут на горку, да оттуда все так кувырком и летят. Сам я это раз видел, своими глазами; даже земля дрожит, право.
– Ну, а жизни-то как решаются они от куски?
– Да ходили наши двое один раз в соседскую деревню, да и заблудились. Вышли на какую-то поляну, Бог знает куда; и ночь уж, и месяц взошел; видят, дело плохо. А издали сразу как загудет, да как выскочит на поляну здоровенный зубр, прямо так лбом о корень и хватился, и ну его вертеть, и ну вертеть, и сам гудит. Это куска ему морду-то и осела, он-то с ней ничего и не поделает. Испужались наши хлопцы, да бежать; бежали, куда глаза глядят, так до самого утра проходили. А пошли мы после сено убирать; глядим, около сосны валяются кости зубра и рога, совсем со лбом промеж двух кореньев засунуты. Оглядели это наши хлопцы, так и познали, что это та самая полянка, где они зубра видели. Как доняла его куска, рога-то он засадил меж корней, чтоб лбище свой почесать, да, видно, и не вытащил, а тут его волки, верно, и задушили.
– А может быть, и с голода издох, – добавил крестьянин после небольшой паузы.
– Как же это он задел рога и вынуть не мог? Ведь они же у него к концу уже.
– Ну, или вширь как завязил, или не умел полегоньку вынуть, все рвал досадуючи, а коренья крепкие, догадки же нагнуться не было. Зверь, хоть дорогой, но все же глупый.
– Поймать его легко или нет?
– Пустое дело: сгородил станочек да положил сена, он и придет; запирай сзади да веди. Так их и ловили, кому там их отсылали, не знаю, королю какому или генералу.
– Чего ж ему идти на сено, когда оно у него есть в лесу?
– Какое там сено?
– Вы же готовите, осокою, как ты говоришь?
– Это даровая работа! Пустое дело с этим сеном.
– Отчего?
– Первое, что его на всех зубров не наготовишь, а второе, что они его сразу все попсуют (попортят): нажрутся, да давай копать его, да кататься на нем, спать разлягутся, все перемочат, перегадят под ногами, да так оно в снегу да в грязи и гноится. Шкода (жаль) работы только, – прибавил он, вздохнувши.
– А в скольких местах кладут сено по пуще?
– Бог их знает, только везде, все одно, сено это зубрам не в помощь. Сгубят сразу все сено и пошли целую зиму кору глодать; пока снег мал, еще осинки молодые скусывают, а там пухнут с голоду на одной коре. В эту-то пору они и к мужикам, на скирдники таскаются, только берегись: все в одну ночь слопают и в леса соседние разбредутся.
– И живут они в соседних лесах или назад идут?
– В Свислочской даче их пропасть живет и вот в нашем маленьком леску, а пара что-то года с два жила, да нет ее теперь. Либо волки загнали, либо в пущу опять вскочили. А то было какие смелые стали; скот наш деревенский пасется, они выйдут да смотрят.
– А ни с коровами, ни с быками не паровались?
– Нет. Наша скотина мелкая, а они какие ведь черти! Где с ними? Он нашу корову просто задушит. Вот у пана тут одного, так спаровали зубра с коровою, потому что крупная, хорошая, так этакая телка зародилась! Рослая, красивая, здоровая, на диво. Только к молоку, говорят, нехороша.[21]
– Нехороша, говоришь, к молоку?
– Да ведьма ее, говорят, испортила.[22]
– Вы все сочиняете.
– Нет, это верно. А вы, пане, смеетесь над ведьмами? Ой! Я пану на это не даю рады (совета). Лихие шельмы, Боже крый от них.
– И людей, стало, они портят?
– Нет, все больше коров да пчел.
– Ну, у меня ни коров, ни пчел нет. А у вас пчел много?
– Нет, мало стало, переводятся борти.
– Что так? Ведьмы, что ли?
– От, и лету им нет, отбиваются все.
Здешние крестьяне верят, что пчелы состоят под особым покровительством невидимых сил. Этому же верят также и в серединной России. В Орловской, например, губернии верят, что есть пчелы, от Бога присланные, и есть загнанные сатаною, вследствие слова, которое знает хозяин. Пчелы от роев, загнанных сатаною, всегда очень сильны и побивают других; но от них хозяин никогда не смеет дать части в церковь (кануну), и купцы «с крещеной душою» будто бы распознают мед от дьявольских пчел и не продают такого воска на церковные свечи, а свозят «в жидовские места» и на фабрики. Действительно, и из крестьян Кромского уезда я знаю пчеловодов, которые ни за что не дают своего меда на канун в церковь; но что им внушает сопротивление общему обычаю тамошних крестьян-пчеловодов, – не знаю.
– А леса вам дают? – полюбопытствовал я у крестьянина.
– Спросить нужно, так дают, по усмотрению.
– А сверх усмотрения?
– Нельзя. Разве пан не видел шлагбавы за нашей деревней?
Я вспомнил, что действительно мы проезжали шлагбаум; что долго звали живущего там стрелка и что нас пропустили, не осматривавши.
– Там смотрят, чтобы ничего не взяли из пущи.
– А мимо шлагбаума?
– Ну, это как кому хочется, – отвечал извозчик, повернувшись ко мне и оскалив зубы. – Да не стоит, – прибавил он, дернув вожжами.
«Разве что так!» – подумал я.
В шерешевское сельское управление приехали очень поздно. Писарь в чемарке встретил нас с заспанными глазами. Приемной комнаты нет. Я улегся на столе, а мой товарищ нашел это импровизированное ложе неудобным, сказав, что «на столе еще належишься», принял половину капли Rhus в сотом делении и в полной униформе погрузился в настланное для него соломенное море.
18-го сентября, г. Пружаны.
Утро прошло презабавно. Проснулись мы от крика в еврейской школе, стоящей около сельского управления. Писарь, услыхав наше неудовольствие, сказал по-польски: «Поганый народ эти жиды!» Спутник мой, ругающий жидов вразобь, вступился за избранное племя, когда его коснулись оптом, и начался спор. Доводы сыпались с той и с другой стороны; но победа, в моих глазах, клонилась на сторону моего товарища, несмотря на то что он затруднялся в выражениях на польском языке. Писарь убедился в том, что и он, и его сослуживцы, и все его приятели бьют баклуши, когда евреи работают.