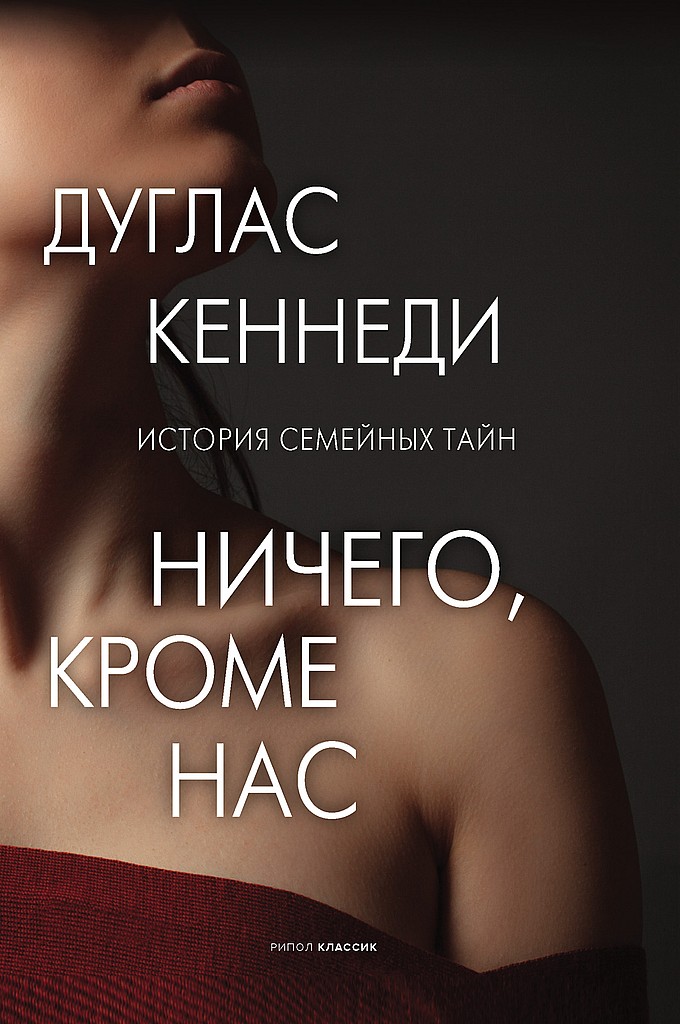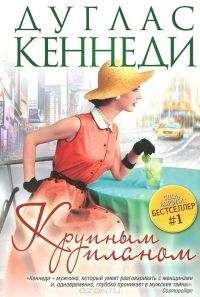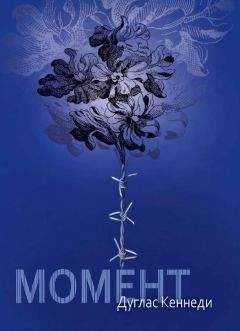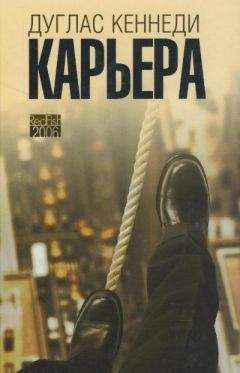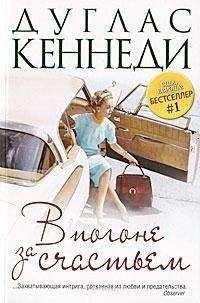и даже, возможно, записывала на видеомагнитофон телевизионные репортажи о задержании Адама. Мама была из тех людей, которые стремятся владеть всей информацией. А вся эта ее стремительность и деловитость в то утро — я это ясно понимала — была не чем иным, как способом заглушить отчаянную душевную боль.
Вчера в продаже появился номер «Эсквайра» со статьей Питера. Выйдя от мамы около семи утра, я купила номер у газетчика на углу Восемьдесят шестой улицы и Бродвея, затем свернула на юг и зашла в «Бургер Джойнт», мою любимую забегаловку в этом районе. Я ела яичницу с тостами, пила кофе — который здесь был очень неплох — и читала текст Питера, тщательно отшлифованный и чеканный. Восхищаться написанным мне никак не хотелось. Однако на меня произвели впечатление эрудиция Питера, его начитанность и то, как искусно он бросает читателя прямо в паутину, сотканную из обманов, семейных и социальных, как он недвусмысленно указывал на то, что махинации на Уолл-стрит отражают культуру общества, находящегося в плену у «денег как определяющего принципа в отношениях между людьми». Все эти темы Питер мастерски вплел в историю нашего брата — рассказ о том, как тот пытался заслужить одобрение отца, но всегда чувствовал себя «непокорным спортсменом, которого вынуждают подчиняться», — с целью показать, что жизнь Адама разрушила развившаяся в нем «потребность» зарабатывать большие деньги. Шли описания «тепличной» жизни нашей семьи в Олд-Гринвиче, внезапного отказа Адама от хоккея с шайбой (по той причине, предположил Питер, что «у него никогда не было инстинкта убийцы»), нескольких лет тренерской работы в школьной команде, а потом возрождения Адама в роли Ковбоя Мусорных Облигаций и того, как он подпал под чары коррумпированного горячего гуру по имени Тэд Стрикленд… Все это подавалось очень эмоционально и в то же время складно, с вниманием к стилю. Дочитывала я, охваченная отчаянием, потому в конце Питер открыто предполагал, что публикация этой истории будет означать арест Адама и верный конец его, Питера, отношений с отцом: «Папа, оставаясь морпехом до мозга костей, никогда не простит мне того, что я нарушил его принципы, его глубоко укорененный код верности семье». По крайней мере, Питер, надо отдать ему должное, ни разу даже не попытался оправдаться в своем решении раскрыть правду об Адаме. Он избегал ханжества и морализаторства. Зато задавал много вопросов о том, насколько приемлемо (или неприемлемо) обвинять близкого и любимого человека, если тот совершил преступное деяние. Ни разу он не попытался склонить читателя на свою сторону. Как редактор, я невольно восхищалась тем, с каким искусством Питер рассуждал о важнейших этических проблемах, поднимаемых в статье, ни разу не попытавшись навязать свои мысли читателям. Он предлагал им сделать собственные выводы, возможно, даже осудив его решение обнародовать преступления брата. Питер не боялся порицания и давал понять, что предвидит обвинения в беспринципности и предательстве.
Закончив читать, я несколько минут сидела молча, глядя на дно кофейной чашки и стараясь взять себя в руки, чтобы снова не впасть в тоску. Будь ты проклят, Питер, хорошо же ты пригвоздил нас, свою плоть и кровь. Обо мне он говорил скупо — упомянул лишь, что я подвергалась преследованию хулиганов в Олд-Гринвиче и всегда выходила за рамки конформистских норм (эта оценка мне понравилась). Но когда речь зашла о безумных маминых взрывах, постоянных изменах папы, об отцовском давлении на обоих сыновей, из-за которого один вынужден был пойти на разрыв с семьей и стать радикалом, а другой попытался стать тем, кем хотел бы видеть его отец, Питер сумел описать это с жестокой прямотой. Я не сомневалась, что мама взовьется до небес, если прочитает это, хотя Питер проявил определенную степень сострадания к матери и ее статусу домашней хозяйки в послевоенное время, высокообразованной, но вынужденной заниматься домашней работой, которую она искренне ненавидела, а тем более оказавшейся сосланной в «быдлобург», где к ней, бруклинской еврейке, относились с нескрываемым пренебрежением.
Однако вторая половина статьи была почти полностью посвящена Адаму и мошеннической схеме, в которой тот участвовал, с подробным описанием всех махинаций. Сухой рассказ Питера был разрушителен в своей доскональности — бесстрастный, подробный отчет об огромной жажде наживы и развращенности Адама. Теперь я поняла, почему Питер и «Эсквайр» так тщательно скрывали статью до публикации. Она читалась как судебное обвинительное заключение.
Рядом с туалетами в «Бургер Джойнт» был работающий телефон-автомат. Я взглянула на часы. Восемь утра. Я позвонила Хоуи домой. Он ответил на четвертом гудке, и по сонному голосу было ясно: ему необходима порция кофеина.
— Я так и думал, что это ты. Приезжай, кофе тебя ждет.
По пути к станции метро на Семьдесят второй улице я прошла мимо трансвестита. Стоя у отеля «Ансония» он/она рыдал/а во весь голос, тушь и подводка для глаз растеклись по щекам, а вопли, вырывавшиеся из его/ее груди, казались — а для него/ нее, несомненно, и были — выражением вселенской скорби.
Хоуи встретил меня в серой шелковой пижаме и бархатных тапочках, на худые плечи был наброшен шелковый халат с узором в турецкие огурцы.
— Ну, надеюсь, ты была умницей и выспалась? — спросил он, обнимая меня.
— Валиум имеет бесспорные достоинства, — признала я.
— Валиум — это фармацевтическая нирвана.
— Пока на него не подсядешь.
— Что плохого в том, чтобы подсесть на нирвану?
Махнув рукой, Хоуи пригласил меня к столу на крохотной кухоньке.
Нас ждал кофе в кофейнике френч-пресс.
Хоуи нажал на поршень и налил напиток в чашки:
— Могу я предложить тебе рюмку коньяка?
— Я всеми силами стараюсь не расклеиться. Так что коньяк… нет, не стоит. И курить не буду — знаю, какой ужас у тебя вызывают сигареты.
— Ну, пару-тройку ты уже выкурила за утро. Мой нос никогда не обманывает.
— Папа мог бы прожить дольше, если бы он бросил курить.
— Твой отец умер от гнева, если можно так выразиться. Это самая убийственная штука, которая разъедает нас изнутри. Сжирает душу.
— Я еще долго буду злиться на Питера. Но я еще больше злюсь на себя.
— На себя-то за что? За то, что не смогла предотвратить распад семьи?
— Потому что три дня назад я совершила жуткую ошибку. Совершенно идиотскую и, кажется, непоправимую.
— Выкладывай.
Я рассказала про письмо Дункана и свою ответную телеграмму, уничтожающую все. Хоуи слушал молча, только взял меня за руку, когда я начала хлюпать, сквозь слезы костеря себя за то, что всегда все только порчу в сердечных делах.
— Ответа от Дункана не было? — спросил он.
Я помотала головой.
— Я