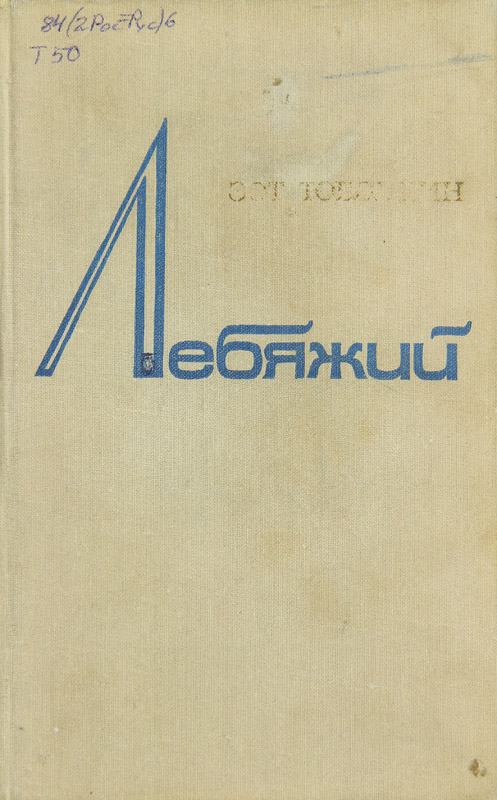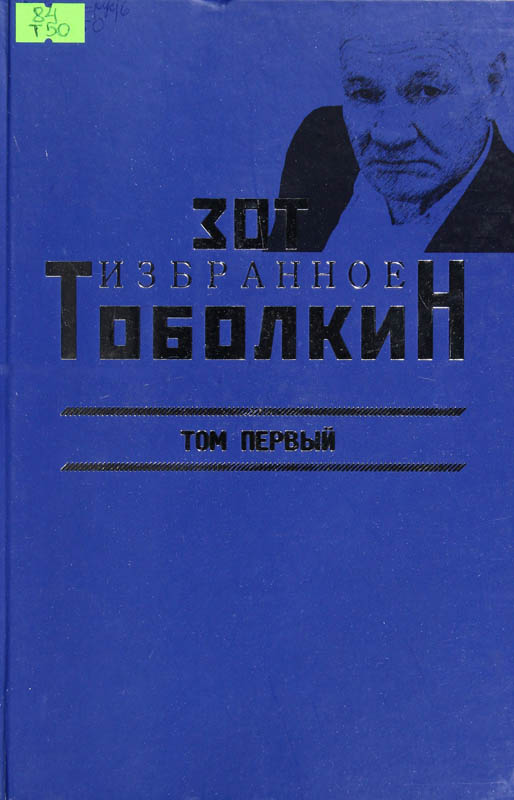вздремнуть? Только вряд ли это получится. Днем он привык действовать, претворять то, что наметил накануне. И все же, запахнувшись полою модного монгольского полушубка, Горкин прикрыл тяжелыми веками глаза, отдался своим мыслям.
Задумываясь о своей судьбе, он почему-то всегда видел перед собою дорогу, а себя путником на этой дороге. Перед путником возникал нелегкий подъем, который нужно одолеть во что бы то ни стало, если даже он очень долог, почти бесконечен. Бесконечность зовет, влечет неизвестностью, и человеческим устремлениям потому нет предела. Лишь бы не устать до срока, не испугаться дальности этой дороги, точно рассчитать свои силы. Иные рвут с места, скоро выдыхаются и теряют интерес к пути, к жизни. Умному все по плечу, сильному все по силам. Там, где подъем слишком крут, где невозможно взять его в лоб, можно попробовать обойти.
Мухин, помешав его размышлениям, поднялся, что-то крикнул радисту, и вертолет тотчас завис почти над самой землей, не считаясь с тем, что один из его пассажиров, взявший себе за правило двигаться непрерывно, тоже неподвижно висит над сугробами, из-под которых проглядывают остатки какой-то городьбы. Пало же в голову кому-то посреди тундры огород городить. А может, здесь был загон для оленей?
– Что это? – Горкин толкнул в бок Мурунова, который все еще маялся с похмелья и потому смотрел на мир мрачно. Взглянув вниз, насупился еще более и хмуро буркнул:
– Об этом Максимыча спрашивай.
Мухин часто-часто заморгал густыми, неожиданными на его морщинистом голом лице ресницами и с трудными выдыхами, бледнея, медленно выдавил из себя:
– Кладбище.
– Тэк-с, – Горкин безразлично кивнул, перевел взгляд дальше, а вертолет, изменив курс, уже летел вдоль заброшенной железной дороги.
Мухин зябко передернул плечами, опять виновато заморгал, точно из-за него эта неуютная дорога сиротствовала посреди выстуженной тундры.
– Ничего, со временем отстроим. Держите по курсу! – махнул он летчикам.
И – снова глухая немотная белизна.
Во второй раз зависли над брошенной дорогой. Этот отрезок пути каким-то чудом уцелел, и по рельсам бойко катила маленькая дрезина. Человек на дрезине дружелюбно помахал им вслед.
– Истома, – сказал Мухин, точно все присутствующие должны были знать, кто таков этот человек. Горкин усмехнулся, пожал плечами. Это странное имя ему ничего не сказало. – Телеграфные столбы видите? Его участок.
– А, линейщик! – Только теперь Горкин обратил внимание на бегущие вдоль насыпи столбы, на провода между ними, по которым в это мгновенье, вероятно, текли чьи-то голоса. От одного вида столбов, от тонких металлических жилок на них стало на душе веселее. Все-таки признак цивилизации.
– Сядем! – велел Мухин летчикам.
Приземлились чуть в стороне от железной дороги, подле неказистой избушчонки с пристроенным к ней сарайчиком. Дверь жилища подпирал кривой березовый батик.
– Запор автоматический, сверхсовременный, – прокомментировал Мурунов, по-хозяйски входя в дом.
У печки, аккуратная, лежала охапка лиственничных дровец. На грубо отесанной стене белела приткнутая шилом бумажка. «Располагайтеся добры люди хлеп и мясо в шкапчике Спирт там же Истома».
Прочитав записку, Мурунов разгладил ее, передал Горкину.
– Богатая орфография, – с трудом разбирая неровно выписанные полуграмотные строчки, читал тот, дивясь, что встречаются еще такие вот темные, обойденные ликбезом, люди. У них, наверно, и сознание-то… на уровне пещерных наших предков. «А впрочем, какое мне до этого дело?»
– Орфография что, главное – спирт... Он действительно с большой буквы. – Мурунов уже отыскал в шкафу плоскую бутыль, раскупорил и, налив полстакана, плеснул в себя. – Не желаете? Тогда я еще приму.
– Поправляйся,– разрешил Мухин, который и сел-то здесь ради Мурунова.
– Заправил баки – можно лететь, – с брезгливым превосходством в меру пьющего человека сказал Горкин. Сам он редко перепивал, ежедневно ел овощи, по утрам занимался способствующей размышлениям гимнастикой йогов.
– Стоп! А благодарность? Мы не вандалы. – Мурунов достал зеленый фломастер и на том же листке приписал: «Спасибо, Истома Игнатьевич. Вечно благодарный тебе Мурунов».
Приперев дверь тем же батиком, отправились к вертолету. Шли по ранжиру: впереди самый старший и самый высокий Мухин, за ним, чуть ниже его, Горкин, замыкал строй Мурунов, косолапый, приземистый, в отпотевших очках.
Минут через десять зависли над островом, отсеченным от суши двумя рукавами реки Курьи. Левый назывался Малой Курьей, правый – Большой. У самой стрелки, приметная издали, лиловела грушевидная полынья.
Остров был обитаем когда-то. Поросший хвойным веселым лесом, он напоминал оазис среди пустыни. Странно, что и южнее этих широт нигде не встретишь мало-мальски путного деревца. А тут – на тебе! – бор отменный! Однако в деревьях угадывалось некоторое различие с материковыми их собратьями: не столь плотен запах и толще мощные иглы.
– Загадка природы, – философски заключил Горкин. Его спутники отмолчались и направились к баракам.
– Давайте заглянем. – Мухин изменился на глазах, посерел и сразу охрип: продрог, что ли?
Бараки выглядели сносно, храня следы прежних своих обитателей. Вдоль стен высились двухэтажные нары, в проходе стояла бочка – печь. В дальнем углу чернела куча истлевшего тряпья: телогрейки, бушлаты, изношенные бродни. Наверно, тех же времен, чье-то неотосланное валялось письмо.
– Что-то руки стали зябнуть, – дурашливо пробормотал Мурунов и, отняв у Мухина письмо, бросил в печку. Огонек родился хилый, но Мурунов яростно тер руки, словно