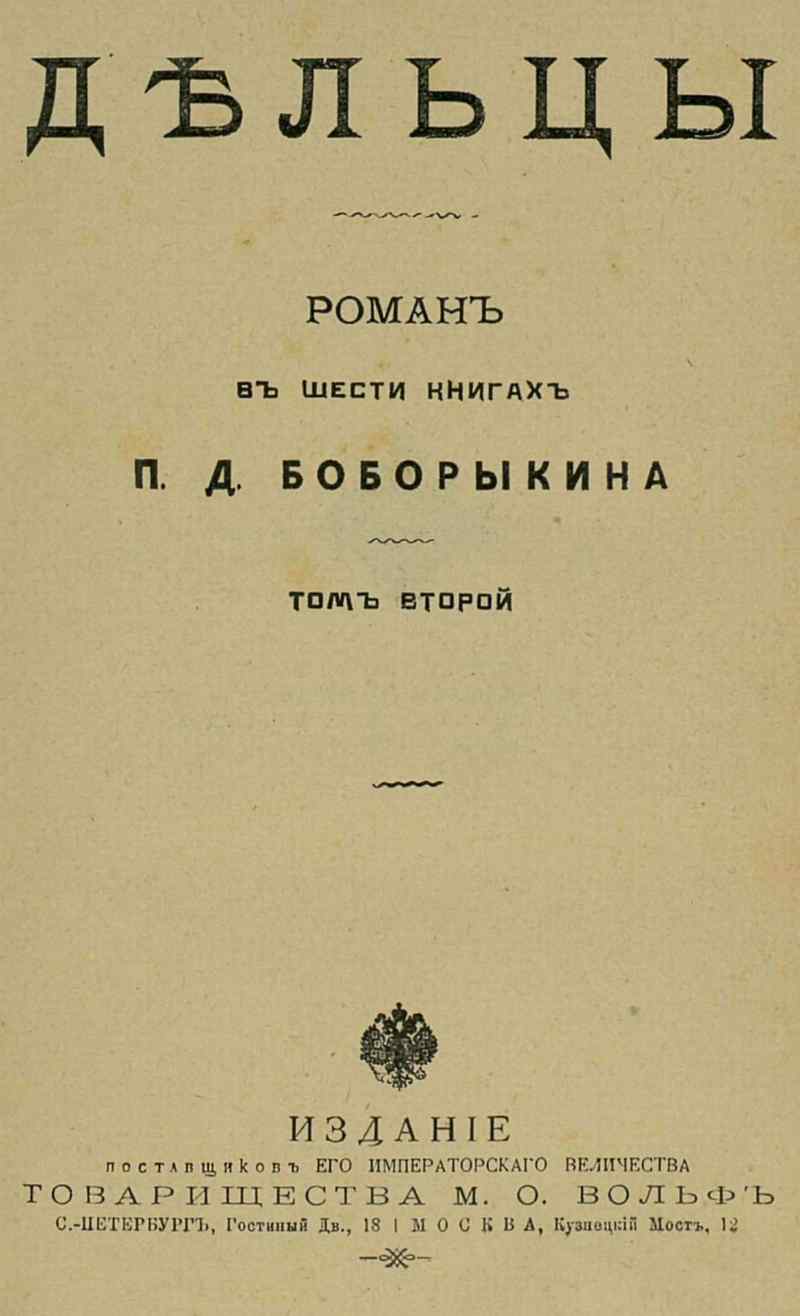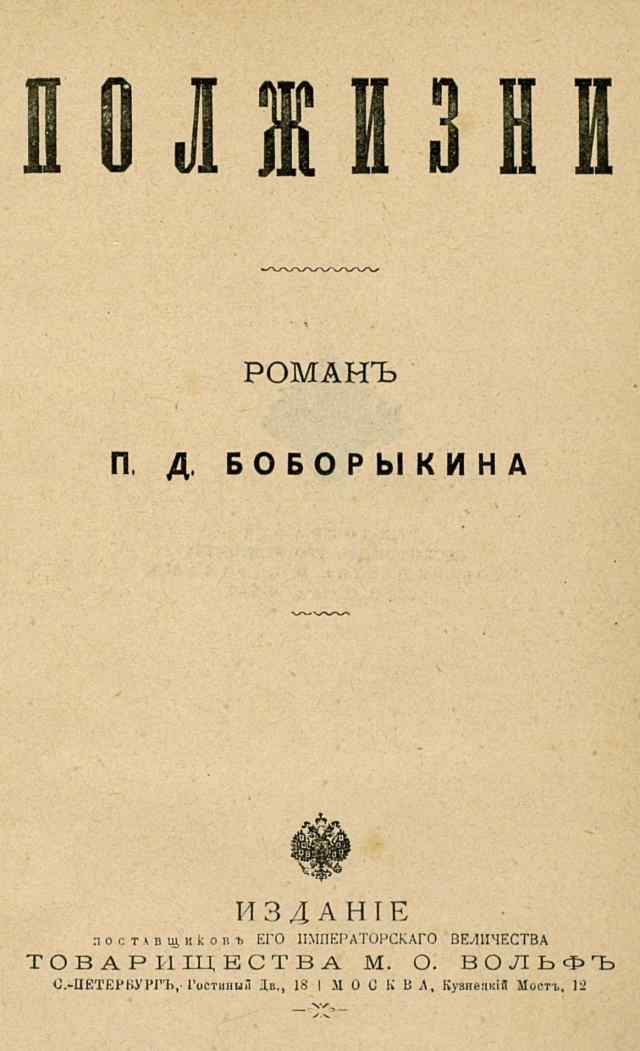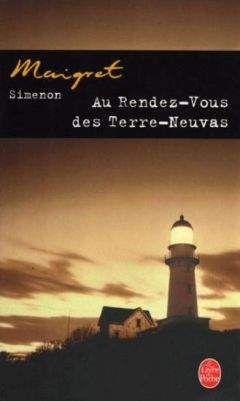а христопродавцы! Есть кое-кто изъ порядочныхъ издателей, такъ тѣ завалены; а мелюзга норовитъ по три рублика за печатный листъ отвалить, да и то, чтобы книжечка была позабористѣе.
— Позабористѣе? — повторила съ недоумѣніемъ дѣвочка.
— Скандальчикъ, что-ли, какой, да чтобы картиночки были, чтобы ему процентовъ двѣсти нажить. Сказывали мнѣ, что есть тутъ какой-то изъ новенькихъ, и деньги у него водятся, хочетъ вплотную издательскимъ дѣломъ заняться. Да все это у него еще не налажено, надо будетъ ждать.
— Позвольте, Федъ Миччъ, — перебила дѣвочка съ дѣловымъ выраженіемъ лица: — если этотъ господинъ имѣетъ деньги, онъ можетъ купить… manuscrit.
— Рукопись, что-ли?
— Да.
— Другое дѣло, кабы онъ самъ заказывалъ вещь. А то надо еще, чтобы она ему понравилась. А и понравится-то, такъ придется, стало быть, впередъ просить…
— Какъ впередъ?
— Извѣстное дѣло, какъ. Здѣсь платятъ переводчикамъ послѣ напечатанія, особливо коли кто вновѣ.
— Я протестую!.. Какъ-же можно такъ съ prolétaires?
— Ну-да, какъ-же! Мошна — сила. Трудовому человѣку остается кряхтѣть. Я еще пойду; да вотъ сегодня-то какъ разсказать вашей мамѣ?
— Ахъ, да! — вздохнула дѣвочка и опустила глаза. — Мама надѣялась.
— «Надежда — кроткая посланница небесъ», — выговорилъ Ѳедоръ Дмитріевичъ такъ, что дѣвочка вскинула на его глазами, грустно улыбнулась и спросила:
— Это стихи?
— Нѣтъ, проза.
— Кто сочинилъ?
— А вотъ, Лизокъ, какъ мы съ вами до риторики дойдемъ, такъ вы и узнаете сіе упражненіе въ россійскомъ слогѣ. Читали про поэта Жуковскаго?
— Да, немножко. Онъ переводилъ… Шиллеръ… помню.
— Ну, такъ вотъ онъ въ юности такую оду въ прозѣ и сочинилъ на счетъ надежды. Кроткая, молъ, посланница небесъ.
— Небесъ… это des cieux?
— Ну да, де сіе, и всякаго она питаетъ, и вѣнценосца, и морехода, и пахаря, — понимаете, мужика, что землю пашетъ?
— Это глупости, — выговорила съ убѣжденіемъ дѣвочка.
— Извѣстное дѣло, глупости. Питаетъ она сухими корками, да и то еще не всѣхъ. Господинъ-то Жуковскій, когда въ этой элоквенціи упражнялся, по милости тятеньки-маменьки сидѣлъ на готовыхъ харчахъ, а кабы онъ съ малыхъ лѣтъ нашу лямку вытянулъ, такъ кроткая-то посланница небесъ была-бы у него изображена въ самомъ паскудномъ видѣ. Не прокормишься на это!
— Вы не отдавайте мамѣ назадъ ея manuscrit.
— Зачѣмъ же ее обезкураживать.
— Она васъ ждетъ обѣдать.
— Обѣдать?
— Вамъ не хочется ѣсть?
— Какъ не хочется.
— Ну, такъ что-жь. Зачѣмъ вы сдѣлали гримасу?
— Вотъ что, Лизокъ, поистинѣ вамъ сказать — зазорно.
— Что такой?
— Ну, совѣстно, что-ли.
— Чего?
— Да что-же я вашу маму-то объѣдаю.
— Какой вы глупый… Что за церемоніи между prolétaires?
— Да какія церемоніи? Мнѣ фунтъ мяса подай да хлѣба фунта два съѣмъ, а даромъ этого не даютъ.
— Вздоръ. Вы меня учите даромъ.
— Экая важность! Я, все равно, вотъ безъ дѣла таскаюсь.
— Мама ждетъ васъ. Вы приходить къ намъ каждый день обѣдать. Если вы церемонитесь, идить къ намъ на pension.
— Нахлѣбникомъ, что-ль?
— Ну, нахлѣбникъ… Я не знаю, какъ это по-русски.
— Да съ меня по рублю въ день мало взять, сколько я съѣмъ.
— Пятачекъ! — вскричала дѣвочка и расхохоталась. — Ну, идемте. Мама ждетъ. Который часъ?
— Да, чай, четвертый пошелъ.
— Я попрошу маму, чтобы сейчасъ обѣдать.
Они встали оба со скамейки и пошли вдоль набережной, миновавъ Академію художествъ.
— Ну, какъ-же вы, Лизокъ, — спрашивалъ Ѳедоръ Дмитріевичъ, шатая въ ногу съ своимъ юнымъ другомъ — отмахали нынче уроки на славу?
— Не совсѣмъ доволенъ собою, — выговорила она, оттопыривъ нижнюю губку.
— Въ чемъ-же сплоховали?
— Урокъ географіи. Но, право, я не виновата. Здѣсь такъ глупо учатъ. Ахъ, въ Брюссель было гораздо лучше! Я не хочу, какъ попугаи, разсказывать; ну, и по-русски я ошибаюсь. Онъ такой глупый, этотъ учитель. Онъ долженъ понять, что мнѣ трудно, а онъ кричитъ. Какъ онъ смѣетъ кричать на дѣвицу?
— Не смѣетъ, — подтвердилъ Ѳедоръ Дмитріевичъ.
— Я знаю, Эропъ лучше его. Онъ всѣ города выговариваетъ такъ смѣшно. Семинаристъ!
— Ну, вы, Лизокъ, не ругайтесь: я самъ семинаристъ.
— Вы хорошій семинаристъ, а онъ глупый семинаристъ.
— Да вы гдѣ этому слову-то выучились?
— Тамъ.
— То-то «тамъ». Слово-то ругательное. Вы разсудите-ка, Лизокъ. Васъ-бы съ малыхъ лѣтъ засадили въ семинарію. Слѣдъ-ли васъ за это бранить? Виноватъ-ли въ этомъ ребенокъ?
— Нѣтъ.
— Ну, мальчика продержатъ до двадцати лѣтъ въ семинаріи, исковеркаютъ, сдѣлаютъ изъ него урода, а потомъ и тычутъ ему въ носъ: семинаристъ-де, долгогривая порода!
— Ха, ха, ха!..
— Да, вотъ смѣйтесь больше! Коли будете такъ надъ нашимъ братомъ издѣваться, такъ я съ вами не на шутку ссориться стану.
— Не смѣете.
И она начала трясти его за руку, подпрыгивая на ходу.
— Мама получше себя чувствуетъ? — спросилъ онъ.
— Лучше. Только спитъ мало. Это нервы, — добавила она, опять нахмуривъ брови.
— Какіе тутъ нервы, Лизокъ…
— Какіе? Вы не знаете, дто такой нервы?
— Знаю. Только нервами-то блажатъ вѣдь баре, а не такія женщины, какъ ваша мама.
— Нервы у всѣхъ, — выговорила съ убѣжденіемъ дѣвочка и прибавила шагу.
Они повернули въ десятую линію и прошли почти до Малаго проспекта. Лизокъ вставила свою машинку, подходя къ воротамъ деревяннаго дома съ мезониномъ. На крыльцо вбѣжала она первая и также бѣгомъ стала подниматься по довольно крутой лѣсенкѣ въ мезонинъ. На площадкѣ передъ дверью она закричала:
— Семинаристъ! — и съ хохотомъ дернула за звонокъ.
II.
Въ небольшомъ мезонинчпкѣ было три комнаты. Первая, съ перегородкой, служила передней и кухней. На порогѣ этой комнаты вбѣжавшую дѣвочку встрѣтила высокая женщина въ траурѣ, совсѣмъ почти сѣдая, хотя съ нестарымъ еще лицомъ.
— Мама! — вскричала дѣвочка: — я веду Федъ Мичча. Обѣдъ готовъ?
— Готовъ. Снимай свою сумку. Училась хорошо?
— Учитель географіи… уродъ!
— Лиза, какъ это можно!
Но Лиза, поцѣловавши мать, побѣжала въ слѣдующую комнату, которая значилась и столовой, и гостиной. Тамъ накрытъ былъ столъ.
— Надежда Сергѣевна, — слышался въ передней голосъ вошедшаго Ѳедора Дмитріевича: — Лизокъ у насъ совсѣмъ отъ рукъ отбивается.
— А что такое?
— Да, помилуйте, никакого уваженія къ своимъ наставникамъ не имѣетъ. Меня цѣлыхъ три раза семинаристомъ обзывала.
— А вы кто такой? — закричала Лиза, съ шумомъ садясь къ столу. — Мама, давайте обѣдать поскорѣе! Какъ ваша фамилія? — кинула она своему другу.
— Что я вамъ буду повторять? — говорилъ съ хмурою улыбкой Ѳедоръ Дмитріевичъ, садясь также за столъ.
— Вы господинъ Бенескриптовъ; но я васъ все-таки очень люблю и позволяю вамъ носить эту фамилію. Я знаю, что это значитъ по-латыни. Bene — это Men, по-французски; вѣдь такъ?
— Такъ.
— Ну, и скриптовъ, это я тоже понимаю. Это по-французски — écrire, и выходитъ человѣкъ, который хорошо пишетъ. Вы пишете хорошо, и я вамъ позволяю носить эту фамилію!
Лиза болтала и смотрѣла на мать, разливавшую въ эту минуту